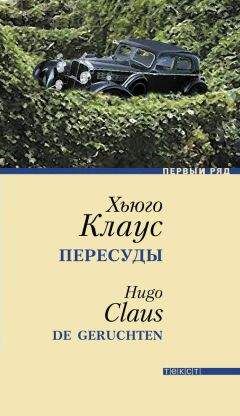— Его донимают черные мысли, — говорит наша Диана. — Он человек с юмором, всегда веселивший своих овечек.
— Овечек? — переспросил ее брат-атеист, коннозаводчик.
— Но он же пастырь душ Господних.
— Ах, ты об этом. Может, он слишком много пьет?
— Он пьет только вино. Даже Иисус пил вино. А ты со своим виски, ты за неделю выпиваешь больше, чем он за год.
— Но, Диана, это — часть моей профессии!
— Все дело в пересудах, — возвестил Учитель Арсен. Было пол-одиннадцатого вечера. — Всякий слух становится историей. И за всяким конкретным рассказом скрывается весьма специфический источник.
— Наконец-то вы что-то сказали, Учитель, — восхитился Жюль Пирон.
— Запомните мои слова, — продолжал Учитель Арсен. — Пожалуйста, запомните. Точка зрения, с которой рассматриваются пересуды, определения, которые другие дают пересудам, и внимание к ним легко взаимодействуют в комплексе, а слова ничего хорошего с собой не приносят, ни слова, ни суждения, ни чуждое нашему слуху произношение.
— Ты просто с кончика языка у меня снял, — вставил Франс Годдерис.
С того времени люди стали все меньше и меньше смеяться.
И Медард, мясник, от которого, между прочим, несет рыбой, потому что по утрам натощак и по вечерам после обеда он съедает бутерброд с селедкой, говорит:
— Если в нас осталось хоть что-то человеческое, мы должны одну минуту, только одну минуточку посвятить памяти Хьюберта ван Хоофа, которого выловили из Лайи[51] вовсе без лица.
— Ужи, что ли, объели?
— Разве в Лайе еще водятся ужи? А я думал, ужей к нам завозят с Тайваня.
— Хьюберт был солидным человеком, но даже его семья не скоро получит страховую сумму.
— А я помню времена, когда в Лайе водились ужи. Мы стояли в шортах по колено в иле и — хоп! — цепляли их острогами. Вот здорово-то было.
— Запомните, — сказал Учитель Арсен. Он замолк и обвел всех взгядом.
— Да, Учитель, говорите же.
— Мы должны…
— Он прав, конечно, мы должны.
— Мы должны…
— Нам надо бы…
— Так и надо будет сделать.
— Положить на могилу ван Хоофа венок. Сложимся, к примеру, сотни по две франков, попросим сделать его стильным, в черно-желтых тонах, и написать серебром, маленькими готическими буковками: «От „Глухаря“ и друзей».
— Надо написать: «От „Глухаря“», друзья пусть заказывают венок отдельно.
— Нет, мы вот что напишем: «От постоянных клиентов „Глухаря“ в память о прекрасном гражданине Фландрии».
— Это слишком длинно.
Но Учитель сказал:
— Попросим сделать буковки помельче.
— А почему желтое с черным, Учитель? Хьюберт был бельгийцем, таким же, как все мы, он заслужил триколор[52].
— Да, надо добавить красный, иначе подумают, что Хьюберт был фламандским радикалом.
— Это цвета клуба «Афина», чемпионов в женском футболе, — объяснил Учитель Арсен и, помедлив, воскликнул: — Ребята! — словно созывал учеников со школьного двора. — Минуточку молчания.
Все застыли: в одной руке стакан с пивом, другая — в кармане брюк, но полной тишины все равно не вышло из-за того, что в ратуше репетировал певческий клуб «Надежда и Любовь». Они готовили печальную песню к похоронам человека без лица.
Клодин, жена сапожника Биренса, стоит в лавке. В руках у нее — банкнота в сто франков. Альма удивляется. Счет Биренсов еще не дошел до такого уровня.
— Не знаю, Альма, как и сказать, но хочу отдать тебе долг.
Альма берет деньги:
— Спасибо большое. Что я могу тебе предложить? — Она дает Клодин сдачу.
— Пока ничего, спасибо.
— Ничего… — повторяет Альма. Ситуация начинает проясняться.
— И дай мне, пожалуйста, подписанный чек.
Альма берет шариковую ручку, которая всегда лежит у нее на прилавке.
— Заодно я принесла башмак Дольфа. Смотри, как хорошо Жюль его починил, он очень старался.
— Сколько я тебе должна?
— Ничего. Жюль сделал это бесплатно. У вас и так хватает трудностей. Так что мы в расчете и никаких больше дел с вами и вашей семьей иметь не желаем.
— Вот и отлично.
Безразличный ответ Альмы расстроил Клодин.
— Альма, коньяк в супермаркете гораздо дешевле. И французский геневер тоже.
— Существуют разные сорта.
— Нет, Альма, тот же сорт. Он всегда пьет только его.
Она дергает дверь лавки и под треньканье колокольчика говорит что-то уже совершенно невразумительное:
— Ты сама себя поставили в идиотское положение. Альма.
— Шла бы ты в жопу Клодин.
— Так что не стоит мне грубить. Это ваша собственная вина. Мы ничего против вас не имеем, ты ведь понимаешь. Но за этим юнцом надо было лучше присматривать. Рене абсолютно невоспитан. Тут уж ничего не поделаешь, ты ведь была тяжело больна.
— Пошла вон.
— Да уж, «спасибо» тут не дождешься.
Альма швыряет в Клодин башмак Дольфа и попадает в щеку.
Клодин вскрикивает.
— Вы еще об этом пожалеете, ты и твой вонючий отпрыск, — кричит Клодин, схватившись за щеку.
Дверь захлопывается, и Альма разражается смехом. Метким броскам она научилась давно, когда еще играла в волейбол. Очень давно.
— Как казнь египетская. Казни приходили с неба. Или из-под земли. Кто скажет, откуда?
— Жара, она может и из-под земли приходить, говорят, от этой… лавы.
— Если ты возьмешь бур или радар и отсюда, прямо из «Глухаря», из-под моих подошв, просверлишь насквозь землю, то лава вытечет, и куда деваться людям? По-моему, но я могу ошибиться, с моими-то познаниями в географии, ты окажешься в Новой Зеландии.
— Все мы слыхали про те жуткие напасти в Египте. Меня им туда в жизни не заманить. Даже в самый лучший отель и по самым низким ценам.
— Самые страшные болезни вызывают самые крошечные зверюшки.
— Из Конго.
— Лучше такого не говорить, Леон, существуют подозрения, но нет подтверждения, одни пересуды. Надо оставить это на усмотрение местных властей. Да или нет, минеер Блауте?
— Или вдруг все узнается само собой.
— Секундочку! Из ничего ничего не выйдет.
— А доктор Вермёлен все богатеет. У него никогда не было столько работы.
— И лаборатория, которая заявляет, что ничего не нашла. Вот с зятем Вермиссена, специалистом, произошло несчастье, он нашел у себя опухоль, всю в синих пятнах с желтой каймой, а когда на нее нажали, оттуда выплеснулось что-то желтое. Прежде, чем специалист успел испугаться.
— Зять Вермиссена? У которого «морган»[53]?
— Да, такой приземистый английский автомобиль. У него еще были проблемы с запчастями.
— Он его продал. Теперь у него «ягуар».
— Да уж, специалист.
— Все дело в гормонах.
— В наше время, говорят, всем управляют гормоны.
— Гормоны использовались еще во времена Изабеллы Португальской, здесь мы говорим о начале семнадцатого века. (Это, разумеется, Учитель Арсен, толстая ряшка, толстые стекла очков и толстое пузо выдают самого умного человека в деревне; видно, как он взволнован. Любой слесарь зарабатывает втрое больше него.)
(За ним вставляет свое слово и экс-комиссар Блауте. Он редко появляется в «Глухаре», чаще проводит время в кафе «Ришелье»: во-первых, там шикарнее, а во-вторых, там базируется Клуб экономных «Чулала», где он — председатель.)
— Конголезские блохи, — говорит Блауте, — перескакивают с негров на собак, чаще всего на лабрадоров, а с лабрадоров — на их белых хозяев, оглянуться не успеешь — они уже скачут у тебя в мошонке. Потому что эта порода принадлежит к особому блохообразному виду, не помню, как называется, который гнездится исключительно в том самом месте, и если ты человек не худой и носишь тесные штаны, то у тебя поднимается ненормально высокая температура, к которой эти конголезские блохи привыкли, а если ты наступишь на одну из них, то не успеешь убрать ногу, как из нее выпрыгивают яйца, только чуть придавленные, и разлетаются в разные стороны.
— Раненые, летающие блохи… — задумчиво пробормотал кто-то.
— Лучше, чем блохастые летуньи… то есть птицы, — отозвался записной остряк.
— И сколько у нас уже жертв? — озабоченно спросил кто-то.
— Я бы не стал подсчитывать. Стоит мне начать считать свои деньги, как я расстраиваюсь.
— У Мишеля Бломмарта три дня назад изо рта потекла синяя слюна, и он целый литр выблевал, я сам видел, рвота была бирюзового цвета.
— Ариана Веркест, которая вечно зачесывала на свою плешь волосы сбоку, вовсе лишилась волос. Ее матушка, человек старой закалки, посоветовала ей попробовать фламандское пиво с пузырьками, которое в ТВ-рекламе называют «Фламандское шампанское». Ариана купила дюжину бутылок и лила его себе на голову, и оно пенилось, и шипело в волосах, и сперва вроде помогало, но через четыре дня перестало.