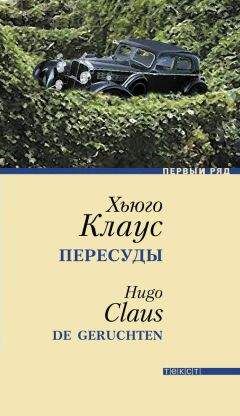— Посмотрите на Йохана Дебаре, который не пил, не курил, занимался спортом: стрельбой по тарелочкам. И вот лег он как-то раз спать и спит до сих пор. Доктор Вермёлен сказал его жене: «Пускай себе спит. Ему от этого хорошо», а он все не просыпается. Жена Йохана спрашивает: «Но, минеер доктор, отчего это, отчего?» — и что же сказал доктор Вермёлен, дипломированный специалист и все такое? «Знаете, мужчинам из семейства Дебаре всегда было тяжело справляться с жизнью», и я лично считаю это неделикатным и неуважительным, по крайней мере, по отношению к отцу Йохана, Вилфриду Дебаре, который год назад попал под товарняк, короче, вы меня поняли.
— А Филиппина Гайрнарт? Болтала себе с Фридой, булочницей, ясно, что о мужиках, и вдруг начала икать. Фрида говорит: «Это ты из-за меня так разволновалась, что икаешь не переставая? Или ты со всеми так разговариваешь?» Ты же знаешь, Филиппине всегда казалось, что все настроены против нее, и Фрида подумала: она немного разнервничалась, сейчас пройдет, но оно не прошло, Филиппина начала стучать зубами, топать ногами, задыхаться, Фрида подумала: у нее приступ падучей, схватила на нервной почве пряничного котенка и сунула ей в рот. Оказывается, этого нельзя было делать, Филиппина не смогла его проглотить, упала, ударилась головой о морозилку с пирожными, успела только сказать: «Фрида, детка, со мной кончено», и все.
— Каждый может над этим смеяться, но возникает вопрос: почему? почему?
— Кажется, длиннохвостые попугаи тоже переносят экзотические болезни.
— Тогда наш Франс должен быть особенно осторожен с вольером, где он их держит. А, Франс?
— Если так дальше пойдет, Франсу придется очистить вольер с помощью крысиного яда. А, Франс?
Франс сидел, уставясь на плакат с портретом Мэрилин Монро. То, что он прорычал, было обращено к пышногрудому, белокурому секс-символу:
— Если кто-то хоть пальцем тронет моих птиц…
— Что тогда, Франс?
— Да мы не о твоей «птичке», мы о твоих птицах. Множественное число.
— …тогда…
— Lovebirds[54], как говорят англичане, — вступил Жюль Пирон. — Жить не могут друг без друга. Скажем, я вставляю в ее дырку, а она щиплет меня за шею, и так мы вставляем друг другу с утра до вечера. Но все равно ей слаще, чем мне.
— Теперь, когда я больше не служу, — сказал экс-комиссар Блауте, — когда я стал свободным человеком, я могу наконец сказать, что, будь я на работе, начни я расследование, оно выглядело бы несколько по-иному. Расследование продвигается медленно, а почему? По распоряжению губернатора. Расследование должно продвигаться не спеша. А у меня бы уже как минимум двое сидели под следствием.
Тут весь «Глухарь» замер.
— Независимое расследование магистрата. Ха-ха. Не смешите меня. И распоряжения на основании распоряжений властей.
Франс Годдерис, который, казалось, читал английский текст, напечатанный на плакате с Мэрилин, вдруг сказал:
— Все вы масоны.
— Я тебя не слышал. — Экс-комиссар отхлебнул «перно», питье, более подходящее для солнечного Юга. — Не странно ли, что вся эта мистика началась в нашем округе в тот день или около того дня, когда вернулся старший из сыновей Катрайссе? Больше вы от меня ничего не услышите.
Когда Блауте был комиссаром, он занимался расследованиями дел, к которым был причастен Рене Катрайссе, чьи мелкие, но жестокие юношеские проступки постепенно выросли до размеров настоящих преступлений; Блауте установил степень вины Рене в связи с преступлениями молодых людей в танцзале «Нова», где ловко очищали карманы гостей, Блауте несколько раз арестовывал его, то за шум, нарушающий покой по ночам, то за неповиновение властям, и, наконец, в связи с найденными у него наркотиками и ножом, лезвие которого оказалось длиннее, чем разрешено законом. Блауте тогда обладал острым умом, служил закону и, не собираясь расставаться с жизнью раньше времени, в соответствии с правилами и предписаниями всегда был qui-vive[55]. Не видим ли мы теперь, как безжалостный Блауте снова выходит из тени? Не поменялся ли закон, не упала ли маска со знакомого сурового лица? Жерар, наш бармен, свидетель самых малых наших происшествий, узнал это выражение лица (и испугался, что стоит Блауте снова нарядиться в полицейский мундир, он и за ним начнет охотиться, вместе с акцизными), и Жерар сказал:
— Об этом вы, конечно, должны были бы сообщить, минеер экс-комиссар.
— Кому?
— Высшему начальству.
Блауте пожал плечами:
— Но, парни, ведь каждый из вас знает то, что знаю я, и вы свободны говорить об этом с другими. А я — нет.
Таким образом он утверждал свои права свободного человека. А нас ожидали еще более странные вещи.
Утро выдалось холодным. Альма зябла в своем халатике, но не хотела подниматься в спальню за свитером, чтобы не разбудить Дольфа. Она чихнула раз, потом еще и еще. Открыла окно, распахнула ставни.
И увидела ярко-зеленый автомобиль у поворота дороги и застывшего возле него человека, прислонившегося к передней дверце.
Отворив дверь лавки, она узнала Франса Годдериса, постоянного клиента, временами раздражавшего ее. Она кивнула ему, вышла и закрепила ставни снаружи защелками. Франс не пошевельнулся, окурок торчал у него изо рта. Только тут она заметила, что фасад дома вымазан дегтем. Запахнув халат поплотнее, она вышла на середину улицы и увидела четыре свастики, намалеванные кистью на стене.
— Кто это сделал?
— А ты как думаешь? — спросил Франс Годдерис.
Он вытащил изо рта окурок, отбросил в ее сторону и поглядел на свою руку. Следов дегтя на ней не было. Свастики были нарисованы неровно, небрежной рукой.
— От них нелегко будет избавиться. Может быть, соляная кислота поможет.
— Что я тебе сделала?
— Ты — ничего.
— Кто тогда?
— А ты как думаешь?
— Ты за это заплатишь, — сказала Альма сердито.
— Посмотрим.
— Когда ты меньше всего ожидаешь.
— Ночью, по-воровски?
— Увидишь.
— Я терпелив, Альма.
— Зачем ты это делаешь?
— Ты знаешь, как хорошо я к тебе отношусь.
— Зачем?
— Ты меня знаешь. Я человек честный. Ты знаешь, что человеку надо.
— Зачем ты это сделал?
— Думаешь, мы забыли, как ты путалась с тем фламандцем, обергруппенфюрером?
— Да, — сказала Альма.
Франс Годдерис крикнул «Хелло!» и помахал рукой сестрам Танге, наследницам специалиста по традициям и мифам Древней Греции, которые, взявшись за руки, направлялись к мессе. Они остановились.
— Господи, Альма!
— Ты только посмотри!
— Это ничем не очистить!
— Сколько можно возвращать нас к той войне?
— Альма, очисти поскорее дом, а то что люди подумают? Разве мы тут, в Алегеме, поддерживали немцев?
— Да, надо его поскорее очистить.
Франс Годдерис отлепился от автомобиля.
— К чему спешить? Разве не надо всем показать, что через этот дом распространяется чума из…
Он как-то подзабыл, откуда, собственно, явилась чума. Может, из той здоровенной страны, что застряла враскоряку между Европой и Азией, а может — из Израиля, точно сказать он не смог бы.
— Мы слыхали об этом. Но мы думали, это только слухи. Ирма, мы можем опоздать.
Они двинулись вперед, испуганно оглядываясь.
— Ты не должна думать, Альма, — сказал Годдерис, открывая дверцу зеленого автомобиля, на котором сверкающими серебряными буквами было выведено: «Мебель Годдериса», — что это направлено персонально против тебя, ты знаешь, я готов носить тебя на руках.
— Кто против Рене, тот против меня.
Она повернулась к нему спиной.
Дольф и Рене еще спали. В кухне она села к столу, положив руки на клетчатую скатерть.
— Снежные чудовища, — проговорила она. — Снова они…
Горькое облако прошлого окутало Альму, у нее перехватило дыхание, на глазах выступили нежеланные слезы.
Ноэль вернулся со своей ежедневной трехкилометровой пробежки, предписанной доктором Вермёленом, который и сам когда-то участвовал в антверпенском полумарафоне. Он предложил очистить стены от свастик, но Альма сказала, что пока делать этого не собирается. Дольф, разбуженный их разговором, принялся ругаться, не стесняясь в выражениях:
— Конечно, за это должен платить магистрат! Свастики — кто такое нынче видал? Франс Годдерис? Попадись мне этот раздолбай, уши поотрываю! Больше двадцати лет, как война кончилась, так-и-перетак его сраную мамашу!
Весь день жители деревни курсировали мимо их дома, кто — хихикая, кто — с озабоченным видом. В лавку не зашел никто. Кроме нашей Дианы с добрыми вестями от Е.П. Ламантайна. «Не надо принимать это близко к сердцу», — гласило устное послание пастыря.