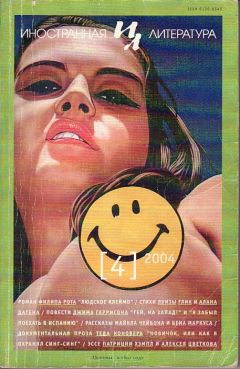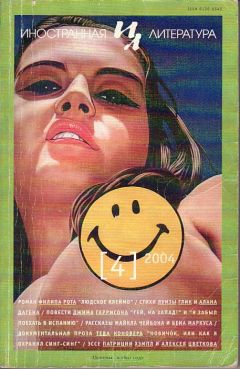Всего с вечера, когда он увидел убегающего Фарли, прошло восемь дней, в которые он счел за лучшее не встречаться с Фауни и ограничиться разговорами по телефону. Защищая себя и ее от шпионажа, кто бы им ни занимался, он не ездил на ферму за молоком, вообще почти не выходил из дома и зорко смотрел по сторонам, особенно в темное время суток. Фауни он велел глядеть в оба у себя на ферме, а в машине не забывать про зеркальце заднего вида. „Как будто мы — угроза общественной безопасности“, — сказала она ему, смеясь своим характерным смехом. „Нет, общественному здоровью, — отозвался он. — Мы нарушаем указания Совета по здравоохранению“.
На восьмой день, получив подтверждение авторства Дельфины Ру, Коулмен, пусть и нельзя было ничего поделать со шпионажем Фарли, убедил себя, что принял против мерзких и провокационных посягательств все меры, какие можно было принять. Когда Фауни позвонила в свой обеденный перерыв и спросила, не кончился ли уже „карантин“, он был настолько спокоен — или убедил себя, — что позволил ей приехать.
Ожидая ее примерно к семи вечера, он в шесть принял виагру потом налил себе бокал вина и вышел наружу с телефоном, чтобы, сидя около дома в садовом кресле, позвонить дочери. Они с Айрис вырастили четверых детей: старшие сыновья, которым уже перевалило за сорок, оба были профессорами колледжей и занимались точными науками, оба были женаты, имели детей и жили на тихоокеанском побережье; младшие, близнецы Лиза и Марк, бессемейные, хотя их возраст подбирался к сорока, жили в Нью-Йорке. Все, кроме одного, Силки этого поколения по три-четыре раза в год наезжали в Беркширы проведать отца и раз в месяц ему звонили. Исключение — Марк, который всю жизнь был с Коулменом в контрах и периодически рвал с ним всякую связь.
Коулмен потому решил позвонить Лизе, что, начав соображать, когда последний раз с ней говорил, понял, что месяц с лишним, а то и два назад. Не исключено, что он просто поддался мимолетному ощущению одиночества, которое все равно прошло бы с приездом Фауни, но, чем бы ни был вызван звонок, он, набирая номер, и заподозрить не мог, какой оборот примет разговор. Где-где, а тут он никак не ждал противостояния — ведь сам голос Лизы, мягкий, мелодичный, все еще голос девочки, несмотря на трудные двенадцать лет учительской работы в Нижнем Ист-Сайде, всегда раньше был для него надежным успокоительным средством. Больше того — голос заставлял порой с новой силой испытать отцовское чувство. Скорее всего Коулмен просто-напросто захотел того же, чего по любой из сотни причин может захотеть почти каждый стареющий родитель, — хоть ненадолго оживить дальним телефонным звонком былую систему отношений. Благодаря длительной, непрерывной и недвусмысленной истории взаимной нежности Коулмен меньше, чем от кого бы то ни было, мог ждать от Лизы осложнений.
Примерно три года назад — еще до конфликта из-за „духов“, — когда Лизе показалось, что, сменив преподавание в классе на уроки чтения для отстающих, она совершила большую ошибку, Коулмен поехал к ней в Нью-Йорк разобраться, насколько плохи у нее дела. Айрис была еще жива, более чем, но не в ее сокрушительной энергии Лиза нуждалась, не в таком ускорении, какое Айрис умела придать кому хочешь. Если Лиза в ком нуждалась, то в бывшем декане с его умением настойчиво и последовательно распутывать узлы. Айрис, конечно, сказала бы дочери, что на то и трудности, чтобы их преодолевать, и Лиза после ее отъезда осталась бы с ощущением, что ей дали по башке и что она в ловушке; визит Коулмена позволял Лизе рассчитывать, что, если она убедительно объяснит ему свое положение, он скажет: „Хочешь — бросай все и уходи“. Скажет и придаст ей этим сил продолжать.
Приехав, он до поздней ночи сидел и слушал ее рассказ о школьных тяготах, а на другой день пошел с ней посмотреть, что там высасывает из нее соки. И увидел, как не увидеть: с утра четыре получасовых сеанса один на один с шести — или семилетними из наименее успевающих в первом и втором классах, дальше сорокапятиминутные уроки чтения с группами по восемь детей, которые читали не лучше, чем отобранные для индивидуальных занятий, — для всех в программе интенсивного обучения просто не хватало педагогов.
— Обычные классы слишком большие, — объяснила ему Лиза, — и до таких детей учителя там просто не добираются. Я работала в обычных классах. Из тридцати трое пускают пузыри. Или четверо. И это еще неплохо. Успехи других детей гонят тебя вперед. Вместо того чтобы задержаться и дать отстающим то, что им нужно, учителя волокут их дальше и думают, заставляют себя думать, что отстающие продвигаются в общей массе. Их с грехом пополам перетаскивают во второй класс, в третий, в четвертый, а там происходит серьезный срыв. Ну а у меня только такие дети, те, до кого не добираются и до кого невозможно добраться, и, поскольку я страшно переживаю по поводу детей и уроков, это на всю меня действует — на весь мой мир. К тому же школой плохо руководят. Директриса чего хочет, сама не знает, учительский состав пестрый, каждый считает, что все делает как надо, а получается сплошь и рядом как не надо. Двадцать лет назад, когда я пришла, было замечательно. Директриса — сказка. Всю школу перевернула. А теперь у нас из учителей за четыре года ушел двадцать один человек. Это очень много. Мы столько хороших людей потеряли. Я потому два года назад перешла на чтение для отстающих, что в классе вся истратилась. День за днем, день за днем, и так десять лет. Больше не могла.
Он слушал, сам говорил мало и, поскольку ей было уже под сорок, без особого труда подавлял желание обнять и приголубить свою побитую жизнью дочь — подавлял, думалось ему, примерно так же, как она подавляет желание приласкать шестилетнего малыша, который никак не научится читать. Целиком унаследовав неспокойный нрав Айрис, Лиза была лишена ее властной силы, и полноценно жить ради других (неисправимый альтруизм был проклятием Лизы) ей мешало то, что как учительница она постоянно была на грани истощения. А еще, как правило, и бойфренд, с которым приходилось нянчиться, на которого она щедро тратила свою доброту, ради которого выворачивалась наизнанку и которому ее незапятнанная этическая девственность рано или поздно невыносимо приедалась. Лиза вечно была нравственно вовлечена во что-то с головой — слишком чувствительная, чтобы отказать нуждающемуся, и недостаточно сильная, чтобы трезво оценить свои возможности. Вот почему он знал, что она никогда не уйдет из программы „Чтение для отстающих“, и вот почему отцовская гордость, которую он ощущал, была не только отягощена страхом, но и временами окрашена раздражением — чуть ли не презрением даже.
— Класс — тридцать детей, это тридцать разных начальных уровней и тридцать вариантов жизненного опыта, а ты изволь добиться, чтоб все это работало, — объясняла она ему. — Три десятка характеров, три десятка историй жизни, три десятка путей усвоения материала. Это масса организационных усилий, масса бумажной работы, масса всего на свете. Но это ничто по сравнению с теперешним. Конечно, даже сейчас бывают дни, когда я думаю: „Сегодня справилась“, но чаще всего мне в окно хочется выпрыгнуть. Все время мучат сомнения — гожусь я для этой программы или нет. Потому что я, к твоему сведению, бескомпромиссная. Хочу работать как следует, а как следует не выходит: каждый ребенок — особый случай, и случай по-своему безнадежный, а я что-то должна со всем этим делать. Конечно, любому учителю приходится биться с теми, кто не усваивает. Но как быть с нечитающими? Вдумайся — не может научиться читать. Это трудно, папа. Душой попадаешь в какой-то капкан.
Лиза, которой до всего есть дело, чья добросовестность безгранична, для кого жить — значит помогать. Беззаветно верная своим иллюзиям, идеалистка до мозга костей. Позвонить Лизе, сказал он себе, и думать не думая, что его святая глупышка дочь ответит ему таким тоном — стальным, неприязненным.
— Что с тобой? Голос какой-то не такой.
— Со мной все в порядке, — отрезала она.
— Что случилось, Лиза?
— Ничего.
— Как летняя школа? Как работается?
— Нормально.
— Как Джош? (Нынешний бойфренд.)
— Нормально.
— А детишки твои? Как тот малыш, что был не в ладах с буквой „н“? Перешел на десятый уровень? А у самого-то имя — сплошные „н“. Эрнандо.
— Все в порядке.
Он спросил — легко, без нажима:
— Узнать, как мои дела, у тебя желания нет?
— Я знаю, как твои дела.
— Знаешь?
Молчание.
— Что тебя грызет, роднуля моя?
— Ничего.
Это „ничего“, второе за разговор, ясно означало: „Давай-ка роднулю побоку“.
Что-то происходило — что-то невероятное. Кто ей сказал? И что ей сказали? В старших классах школы, а потом, после войны, в колледже он занимался по чрезвычайно плотному расписанию; работая в Афина-колледже деканом, он чем труднее было, тем сильней заряжался энергией; борясь с ложным обвинением в расизме, он не дал слабины ни в чем; даже уход из колледжа был не капитуляцией, а гневным протестом, сознательной демонстрацией несокрушимого презрения. И за все годы преодолений и противостояний он ни разу — даже когда умерла Айрис — не чувствовал себя таким беззащитным, как теперь, когда Лиза, воплощение почти анекдотической доброты, в одно это слово — „ничего“ — вместила всю ту жесткость, для которой отроду не находила объекта.