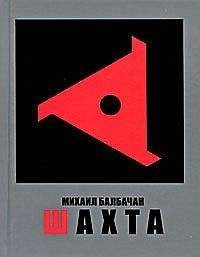Но затосковал он. Стал на всех бирюком смотреть, исподлобья. В город-то к Дарье не ходил больше ни разу. В забое только душу отводил. Уголек рубал с остервенением, изнурял себя всячески. Похоже, душа у него сильно болела, и он ту боль работой унять пытался. До того дошел, что почти перестал из шахты выходить. Когда артель его в забой спускалась, он вместе с ними обычным манером работал. Они потом уходили, а он – нет, все так же продолжал уголь долбить. Между прочим, он к тому времени большого искусства достиг в этом деле. Иной может цельный день кайлом стучать, а толку никакого не будет. Опытный же человек несильно тюкнет, где нужно, – уголь так и сыпанет, легко, будто и не держался он ни на чем. Есть там особые такие местечки да прослоечки, кто их чувствовать может, у того только результат хороший выходит. Вся суть в этом. Шубин натуру угольную очень хорошо почувствовал. Нескучно и нестрашно ему в шахте сделалось, удивлялся даже, как это ему сначала там не нравилось. А на свету, среди людей, ему тяжко стало находиться, не то слово тяжко, а прямо – нож острый! На-гора поднимался, только чтобы хлеба и сала себе в лавочке купить да воды свежей набрать. Люди его тоже сторонились, потому что он еще страшнее, чем прежде сделался. Черный, худой, отовсюду волосья торчат, одни зубы только и видать. Когда работать надоедало, он, бывало, на угольную кучу ложился, фитилек в лампочке тушил и подземную музыку слушал. Звуков там, ребятки, много разных. Вода с кровли капает: кап, кап – как часы. Пласт в забое щелкает, кусочками угля постреливает, иной раз и цельная глыба валится. Тоненько газ свистит, из трещин выходящий. Невдалеке где-то ручеек журчит. Течет незнамо откуда и куда, и вода в нем ядовитая, пить нельзя. Бывают звуки вовсе непонятные: то ли ходит кто, то ли стонет, то ли гукает нарочно, людей пугает.
Раз, когда Шубин в лавочку за харчами зашел, повстречался ему там штейгер, приобнял, уговаривать начал. И его, значит, проняло, пожалел бедолагу. «Брось, – говорит, – Васька, кручиниться, не стоят того бабы, чтобы из-за них такой молодец пропадал!» – «Не могу, – отвечает Шубин, – бросить, потому душа у меня горит». – «А ты винца выпей, оно и полегчает. Ежели чего, так я тебя завсегда покрою, ты уже столько наробил, что теперь и погулять законное право имеешь». Послушался Василий начальника, купил осьмуху водки. Выпил стакан – нутро малость согрело, а толку никакого. Выдул всю бутыль – не действует, зараза! Нету душевного облегчения! Пошел опять в лавочку, взял теперь уже четверть. До половины дошел, – тогда только пронимать начало. Все перед глазами ходуном заходило, поплыло на сторону, а черная злость из-под сердца хлынула, запенилась. «Бовэ, – кричит, – такой-сякой французик, угнетатель, вот он кто! Всю кровушку мою выпил!» Подвалили забулдыги, принесли новую четверть. Всю ночь они с Васькой куролесили, а наутро отволокли его бесчувственного домой, в землянку. Деньги, какие при нем нашлись, забрали, попинали немного да и ушли себе. Между тем неладное у Дарьи приключилось.
К хозяину, Жану Леопольдычу, жена из заграницы приехала. Вдруг ночью стук, звон. Даша проснулась – что, думает, такое? Во всем доме светло, в полный голос разговаривают, лакеи баулы да коробки шляпные с улицы затаскивают, а это, значит, хозяйка как снег на голову нагрянула. Люди потом разное про нее болтали, будто бы не жена она Бовэ была а, …гм, еще кто, но Кутепов меня доподлинно уверял, божился даже, что нет, самая что ни на есть настоящая жена. Тоже красавица была, не как Дашка, правда, но все-таки. Сама высокая, черноволосая, а вид имела надменный. Как же, сударыня-барыня! Глянет, бывало, глазищами своими, простому человеку не по себе даже становилось. Значит, как она приехала, Дашкиным шашням конец наступил. Только все равно вскоре наружу все выплыло. То ли Жан, этот, Леопольдыч, промашку дал, то ли сама Дашка вид показала, а всего верней – нашептали добрые люди. Так что барыня в каморку Дашкину ночью ворвалась, за волосы ее сонную с койки стащила и ну орать: «Вон отсюдова, такая-сякая!» Она, между прочим, хоть и француженка была, а по-нашему хорошо изъясняться умела. А может, и не француженка, бес ее знает. Иные брешут – полячка, но именно что брешут, потому полячки все блондинистые да мосластые, а эта, наоборот, чернявая была.
Вот Александра Михайловна ваша до того сердито на меня смотрит, ажно мурашки по спине бегают. А я ничего такого не сказал, ведь правда, ребятки? Я, может, и выпимши, заради великого праздничка, но понимаю, когда чего говорить дозволяется.
А Дашка в плач. «Не можете, – кричит, – вы меня выгнать, потому любовь у нас необыкновенная с Жаном Леопольдычем. Приехали вы на нашу беду, всем от вас докука, и слугам, и мне, и Жану Леопольдычу!» – «Ах вот, оказывается, до чего дело дошло, – говорит барыня, – это мы сейчас у него самого спросим!» А Бовэ уже тут как тут, в уголку темном ховается, в ночном колпаке своем, сам – белый, как тот колпак. «Ну, друг сердешный, – спрашивает его барыня, – что ты на это ответишь?» Тот лицо ладошками закрыл, ничего не отвечает. «Да как же это вы, барин, молчать можете? – закричала Дашка. – Отвечайте уже ей! Чего вы такое мне обещали? А? Я ведь теперь к своему мужику возвернуться не могу, лучше руки на себя наложу! Потому в тягости я, ребеночек у нас с вами будет!» Как Бовэ про ребеночка-то услыхал, сразу руки от лица отвел и на Дашку посмотрел, как бы в изумлении. «Какая мерзость!» – говорит. Повернулся и вышел.
Барыня велела кухарку сейчас же взашей вытолкать и вещички ее вслед за ней в грязь бросить. А жалование, что ей причиталось, заплатить забыли, конечно. Сама барыня тоже там не задержалась, сразу баулы собрала, за извозчиком послала и – фьюить! – назад, в заграницу свою.
Дарье-то ничего не оставалось, как в поселок вертаться. Идет и плачет. Вдруг видит: что такое? Люди бегают, пожарные едут, трубят, полиция везде. Бабы вокруг еще горше ревут, чем она сама. Некоторые так даже в голос воют. Народ к шахте бежал, ну и Дарья тоже побежала. Как яркая звездочка среди черных туч она в толпе светилась, в нарядном своем платье да лаковых туфельках. Слышит: газ метан в шахте взорвался и шахтеры все, больше ста человек, заживо сгорели. Потом, правда, оказалось, что не все. Двое или трое, кто в рубашке родился, спаслись. Бабы и детишки шахту со всех сторон окружили, кричали истошно, одежонку на себе рвали, на жандармерию напирали, которая, от греха, копер окружила. Даша тоже принялась на себе волосы дергать, но потом тошно ей сделалось, и решила она в землянку уйти.
Да, ребята, страшное дело тогда случилось. Шахта наша, хотя разработка еще на небольшой глубине велась, уже тогда газовой была. В те времена, если газ в выработках собирался, рабочих да лошадей выводили и просто выжигали его.
– Лошадей! Лошадей выводили! – засмеялись ученики.
– Чего, неслухи, смеетесь? Ну да, лошадей! Не было тогда электровозов-то. Нормально, лошадьми откатывали. Тогда везде лошади были, не то что сейчас. На шахте их держали целую конюшню, да конюхов при них, да уборщиков, навоз вывозить. Об чем это я? Ага. Метан, это такая подлая субстанция, что когда много его в воздухе – не так опасно, сгорит, как спирт, синим пламенем, и всего делов. А вот ежели немного его, тогда беда – взрывается! Взрывом этим угольную пыль подымает, и она вдругорядь взрывается, еще страшней, чем газ. Потом завсегда пожар начинается, сразу по всей шахте, и те, кто от взрывов не загнулся, от дыму угорают. Поняли меня, пионерия? То-то, а потому что наука!
Чтобы метан выжигать, специальные люди имелись. Такой «выжигальщик» мог месяцами баклуши бить или, к примеру, пить без просыпу. А когда требовалось, одевался он в мокрую овчину, шерстью наружу, и в таком виде ползал на карачках по выработкам, газ поджигал. Но, если газ взрывался, ему, конечно, каюк выходил. Зато все остальные живы оставались. Выжигальщики, обычно, дольше году не жили, по большей части с первого же раза гибли.
В ту пору в выжигальщиках у нас Янек такой ходил, поляк по национальности. Лет шесть на этой должности протянул, а то и больше. Жил неизвестно где и как, а на шахте появлялся, только когда выжигать требовалось. После он каждый раз по месяцу в больнице лежал – легкие у него, что ли, слабые были. Из-за своей специальности выглядел он примерно как паленый боров. Суеверные люди опасались даже на улице с ним встречаться, очень дурной приметой это считалось. У Янека особый нюх имелся, как-то умел он определить, когда можно выжигать, а когда нет еще. Некоторые говорили, будто крысы ему в этом помогали, сбегались к нему со всей шахты и пищали чего-то, а он – понимал. Значит, брал он с собой еды, питья, пакли просмоленной, спускался в шахту и сидел там неделю или больше в полной темноте, где-нибудь поблизости от лошадей.
В тот раз его долго разыскать не могли. А когда нашли да стали на работу звать, он ни в какую идти не хотел. Но уломали, уговорили как-то. Штейгер за руку его, как малое дитя, на шахту привел. «Что, – спрашивает. – Янек, струсил наконец?» Тот только головой своей облезлой помотал, но, перед тем как уже в клеть войти, шепнул: «Сон я плохой видал, пан штейгер. Сама Смерть в этой клятой шахте сидит». Спустился, и – ни гугу. Молчит, хряк старый, и точка. Неделю так просидел, другую. На третью только неделю, отмашку дал – людей выводить. Все, кто там был, быстренько на-гора поднялись. Шубин гулял как раз в это время. Потом другой сигнал снизу поступил – Янек просил клеть ему опустить. Это значило, что метан он весь выжег и сам живой остался. Вышел он на солнышко, народ смотрит, что такое? Почти что не обожгло его, только белый весь, аж с прозеленью, и дышит тяжело, хрипло. Хотели, как обычно, в больницу отправить, а он фельдшера в бок кулаком пхнул, выругался по-своему, по-польски, матерно, и прочь пошел. Больше мы его и не видали, хотя, конечно, искали, очень даже искали.