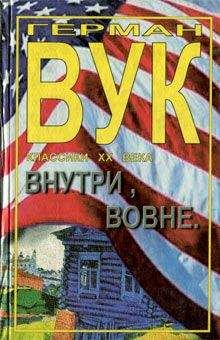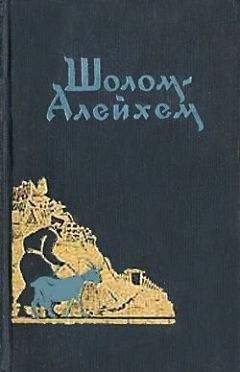— Ну ладно, Финкельштейн, — сказал Голдхендлер позднее, когда мы остались с ним вдвоем в кабинете, пока Марк ждал внизу, — тебе решать. Он вроде бы толковый парень, только не профессионал.
— Разрешите мне его попробовать, — попросил я.
В этот момент в кабинет вошел Клебанов — дородный мужчина с пышными бакенбардами, в плисовых бриджах и свитере.
— Хорошая новость! — объявил он с порога, даже не поздоровавшись. — Синдикат согласился.
— Вот как! — воскликнул Голдхендлер и расплылся в улыбке, продемонстрировав провалы между зубами. — Отлично! Когда это случилось?
— Я только что говорил по телефону с Джуно. Теперь никому из нас не нужно вкладывать больше ни одного цента. Теперь, как видно…
Когда я уходил, Клебанов продолжал разглагольствовать, а Голдхендлер слушал его с таким же восторженным выражением, с каким «Зейде» читал вслух письма дяди Велвела с отчетами о его судебных победах.
— Ты, кажется, говорил, что он остроумный человек? — заметил Марк, когда мы шли от Голдхендлера.
— Он сегодня был не в духе.
— А, ладно тебе! «Передай мне это говно»! Это же варвар!
— Ты что, не хочешь у него работать?
Марк не ответил. На нем был старый коричневый пиджак, который он носил еще в университете, с заплатками на локтях и обтрепанными обшлагами.
— Мне сейчас выбирать не приходится, — сказал он наконец. — Только не знаю уж, чем я могу быть тебе полезен. Но, в конце концов, я, наверно, получу-таки эту стипендию, так что речь лишь о том, чтобы как-то прокантоваться до лета.
Недели через две Марк переехал ко мне в «Апрельский дом», и мы с ним начали сочинять репризы. Мне было несколько неловко: я, который некогда был по сравнению с Железной Маской ноль без палочки, теперь работал вместе с ним, при этом зарабатывая больше его и находясь на положении его начальства; а он, получивший работу по моей протекции, жил со мной в роскошном отеле за мой счет, ибо я отказался брать с него его долю квартплаты. Да и сочинение реприз шло у него не очень-то гладко. Он был университетский остроумец, а не радиохохмач: это — большая разница, которую Марк хорошо понимал.
— Ты делаешь всю работу, — говорил он, — а я тебе ничем не помогаю; я чувствую себя тунеядцем.
Но я, тем не менее, убеждал его не уходить. Он все-таки выдавал остроумные шутки, да и обсуждать с ним готовые программы было полезно. Хотя теперь я уже больше не мучился из-за Бобби — у меня были другие девушки, правда, не такие умные, как Розалинда Гоппенштейн, — но мне все еще не хотелось жить в «Апрельском доме» в одиночестве. Прежде всего, я не доверял самому себе и боялся, что могу в минуту слабости позвонить Бобби и попросить ее приехать. Кроме того, Марк был куда более приятным соседом, чем Питер.
* * *
Как-то, вернувшись с утренней прогулки, я уже в прихожей услышал доносящуюся из гостиной беглую речь на идише со скоростью добрых двести слов в минуту. И говорил не кто иной, как Марк. Он расхаживал по комнате, а перед ним на диване сидели маленький бородатый мужчина в ермолке и полная пожилая женщина, вытиравшая глаза платком.
— Мейне элтерн, — сказал Марк, бросив на меня тревожный взгляд (то есть «мои родители»).
Раньше Марк при мне ни разу не говорил на идише. В университете, не будь он членом «Бета-Сигмы», я, наверно, и не догадался бы, что он еврей. К соблюдению еврейских обрядов и обычаев он относился безучастно — не враждебно, как Питер, не язвительно, а просто безразлично. На религию он смотрел так же, как Вивиан Финкель: холодно, снисходительно и как бы со стороны. Финкель считал Марка своим лучшим студентом по сравнительной истории религий.
Отец Марка стал подниматься и здороваться со мной на ломаном английском языке; Марк его резко прервал:
— Эр ферштейт («он понимает»), — сказал он, а затем обратился ко мне на идише: — Не можешь ли ты одолжить мне сто долларов?
— Охотно, Марк, о чем речь! — ответил я на том же языке.
— Зачем беспокоить твоего друга? — возбужденно сказал отец Марка. — Банк даст нам ссуду, только тебе нужно приехать к нам и расписаться на бумагах.
Марк ответил, что он не собирается тащиться к черту на рога на Кони-Айленд и снова связываться с банком. Я сел за свой стол и вынул чековую книжку. Мать Марка спросила меня, откуда я знаю идиш: ведь я же, наверно, родился в Америке. Отвечая ей, я не мог не заметить, насколько безжизненно звучит мой литовский диалект идиша по сравнению с красочной галицийской речью Марка. Он расписался на моем чеке и передал его отцу со словами:
— Ну, вот, папа, теперь ты можешь хоронить тетю Розу. Сегодня утром умерла мамина сестра, — объяснил он мне. — Какая-то благотворительная организация должна была дать деньги на похороны, но у них в делах жуткий кавардак, и денег нет, и неизвестно, будут ли. А тем временем тело уже лежит в салоне похоронного бюро.
— Такое безобразие, такой позор! — воскликнул отец Марка; он положил в карман мой чек и пожал мне руку. — Это была с вашей стороны большая мицва. Хоронить усопших — святое дело, и вы приняли участие в выполнении нашего семейного долга.
Когда Марк вернулся, проводив своих родителей до лифта, он сказал:
— Ну вот, все решено. Мне нужно выплачивать долг, так что я остаюсь на работе.
— Ты чертовски хорошо говоришь на идише, — сказал я в искреннем изумлении.
— Еще бы мне на нем не говорить! — сказал Марк с кривой усмешкой, а затем, перейдя на арамейский, он с безукоризненной ешиботной напевностью процитировал начало талмудического трактата «Бава кама»: — «Главных принципов ущерба суть четыре: бык и водоем, пастбища и пожар…».
Затем он снова заговорил по-английски:
— Ну, ладно, я поехал смотреть, как будут зарывать в землю тетю Розу. Черновик скетча для Фанни Брайс у тебя на столе. По-моему, он гроша ломаного не стоит.
Вечером, когда мы оба остервенело стучали на машинках, неожиданно позвонила Бобби Уэбб. Она была в панике, и теперь это был уже не предлог: стряслась беда с ее собачкой. Пока я говорил с Бобби, Марк продолжал себе печатать, не прислушиваясь к моим словам; лишь один раз он бросил на меня беглый взгляд, когда я говорил Бобби чго-то утешительное. Повесив трубку, я вынул из-под кучи рукописей ее фотографию и протянул Марку.
— Это она? — спросил он; он знал лишь, что у меня какие-то сложные отношения с какой-то девушкой.
— Она.
Марк покачал головой. Я достал бутылку виски, поставил ее на стол и, пока мы пили, подробно рассказал ему историю своих отношений с Бобби. Это заняло немало времени.
— Вопрос, — сказал я, закончив, — помогать ли мне ей с собачкой?
Марк взглянул на меня и пожал плечами.
— Принц-студент и кельнерша, — ответил он.
— Что?
— Есть такая старая-престарая история, Дэви. Классическая оперетта.
— Не понимаю. Бобби не кельнерша, она бродвейская красавица, а я не принц и даже не студент, я всего-навсего сочинитель реприз.
Марк налил виски в оба стакана.
— Ты Минскер-Годол, — сказал он.
— Господи, я только один раз тебе об этом рассказывал, да и то спьяну. Как ты это запомнил?
— Дэви, я тоже был Годол.
И Марк рассказал о себе и о своей семье. Он сделал это только один раз и потом никогда об этом не упоминал. Как он больше никогда не говорил на идише — по крайней мере при мне. Лишь в тот вечер, один-единственный раз, с его лица упала Железная Маска, когда мы приканчивали бутылку виски.
Марк родился в деревне под Краковом. Его отец был там шойхетом — то есть занимался ритуальным убоем скота. Родители Марка привезли его в Америку, когда ему было четыре года; его отец поначалу стал шойхетом в городке Фар-Рокауэй, на Лонг-Айленде. Но его так возмущало наглое надувательство, процветавшее, как он считал, в торговле кошерным мясом, что он навсегда спрятал свои ножи и открыл на Кони-Айленде кондитерскую лавку, а также стал давать уроки иврита. Он оставался сурово благочестивым и отдал сына в иешиву. Марк, который некоторое время был его любимцем, взбунтовался, ушел из иешивы и самостоятельно попросил и добился стипендии для обучения в манхэттенской частной школе. В эту школу принимали иногда одаренных детей из бедных семей: считалось, что это повышает общий уровень школы и расширяет кругозор учеников; и Марка приняли с распростертыми объятиями. В Колумбийский университет он тоже поступил, получив стипендию. Братство «Бета-Сигма» приняло его без вступительного взноса. У него всегда ветер свистел в кармане.
Поводом к его разрыву с отцом послужил сущий пустяк. Зимой по субботам после молитвы «Минха» мы читаем длинный цикл из шестнадцати псалмов, начинающийся псалмом 104. Его первые слова — «Благослови, душа моя, Господа!» — на иврите «Борхи нафши» — стали заглавием всего цикла. Как-то Марк то ли забыл, то ли поленился прочесть все шестнадцать псалмов, и отец его выпорол. Через неделю он снова — уже нарочно — отказался это прочесть и был снова выпорот. Затем он прочел-таки этот цикл — в последний раз в жизни. На следующий день он ушел из дома и поселился у своей замужней сестры, которая его приютила. Лишь много лет спустя он снова вошел в родительский дом. Прошло время, и отец более или менее примирился с отступничеством Марка, он даже стал гордиться его дипломами и учеными степенями; но полностью отец и сын так и не помирились.