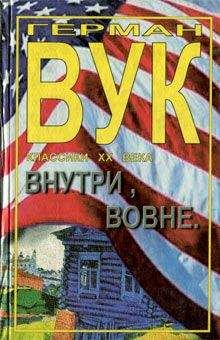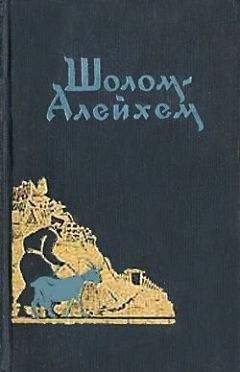— Я так выгляжу?
— Кельнерша за тысячу долларов, — ответил Марк.
— Я ездил смотреть собаку, которую я ей купил.
— Интересно было бы познакомиться с этой девушкой.
— Нет ничего проще, — сказал я и поднял телефонную трубку.
Бобби удивилась, что я снова звоню так скоро. Я предложил устроить двойное свидание — мы с Марком плюс Бобби с Моникой — в «Золотом роге». Марк весь вечер всех смешил, и Бобби, я уверен, была ему за это так же благодарна, как я: он не давал нам погрузиться в грустные воспоминания. Из ресторана Марк ушел с Моникой, а я повез Бобби домой. Я боялся обратного путешествия в такси, но напрасно: Бобби была холодна и спокойна, и я, к собственному удивлению, заговорил о своей нынешней и в то же время давней дилемме: идти ли мне осенью на юридический факультет или еще год проработать у Голдхендлера?
— Милый, если ты меня спрашиваешь, — сказала Бобби, — то, по-моему, поработай еще у Голдхендлера, чтобы скопить денег на учение. У твоего отца здоровье уже не богатырское, нехорошо было бы, если бы ты сел ему на шею. И вообще, тебе же нравится мистер Голдхендлер, и работать у него интересно; твоей жизни можно просто позавидовать — в те дни, когда какая-нибудь дурочка не портит тебе кровь.
Мы поглядели друг на друга в свете уличных фонарей. «Эта дурочка меня насквозь видит», — подумал я и сказал:
— А что, разве кто-нибудь жалуется?
Когда такси остановилось у ее дома, мы пожали друг другу руки.
— Это был отличный вечер, — сказала Бобби. — Твой друг Марк очень понравился Монике. Он очень остроумный. Не то что твой бука Питер.
* * *
Когда я прочел в «Нью-Йорк таймс», что мюзикл, в котором выступала Бобби, скоро сойдет со сцены, моим первым побуждением было позвонить ей, посочувствовать и предложить ей утешительный ужин в «Золотом роге». «БЕРЕГИСЬ!» — прозвучала у меня в мозгу Одиннадцатая Заповедь. Ладно, сказал я сам себе, пусть это будет не «Золотой рог», а какое-нибудь место попроще.
В ресторане «Линди» она запросто умяла огромный бифштекс. Она была грустна, но не впадала в отчаяние. Ей нужно было зарабатывать деньги, и поэтому Эдди готовил с ней сольный вокальный номер.
На обратном пути, в такси, она вдруг расплакалась:
— О, Срулик, почему так получилось? Ты, наверное, в конце концов женишься на раввинской дочке, я, может быть, выйду замуж за Эдди, а ведь мы так друг друга любили!
Я обнял ее и поцеловал, но она отстранилась:
— Нет, нет, ради Бога, не надо; не будем начинать все сначала, я этого еще раз не выдержу.
Она не притворялась, это было искренне. Я отодвинулся и сказал:
— Этим летом я хочу съездить в Европу.
О поездке в Европу я подумывал уже давно, но окончательное решение я принял именно тогда, в такси: точнее, Одиннадцатая Заповедь приняла это решение за меня.
— Вот как? В Европу? Счастливого пути! Хотела бы я иметь столько денег!
На прощание я купил Бобби фонограф, с помощью которого ей было легче разучивать свой сольный номер. Она сказала, что подарка от меня не примет, а если возьмет деньги, то только в долг, так что мы уговорились, что это будет заем. Я сказал родителям, что в будущем году буду жить у них.
Мама с папой заметно старели. Они продолжали свою еврейскую общественную деятельность: работу в синагоге и в еврейской школе, участие в сионистском обществе, сбор денег на иешиву и так далее. Дела в прачечной «Голубая мечта» шли ни шатко ни валко, один кризис следовал за другим, и папа вертелся как белка в колесе, зажатый между заимодавцами и компаньонами. Мы с Ли выпорхнули из родного гнезда и жили теперь своей жизнью. Мама с папой гордились нашими успехами, хотя и огорчались нашим отходом от еврейства. По-моему, они гораздо лучше олицетворяли «американский еврейский опыт», чем сексуально озабоченные профессора Питера Куота. Но папа не умел писать книг. Я тоже не уверен, что умею, но я делаю попытку.
Как раз когда я уже собрался ехать в Европу, Марку сообщили, что он получит ожидаемую стипендию, и он тоже собрал вещи — в основном книги — и распрощался с Голдхендлером.
— Не будем себя обманывать, — сказал он, закрепляя ремни на своем видавшем виды чемодане. — Ты обо мне скучать не будешь. По сути дела, я только даром получал деньги, всю работу делал ты. Если не считать того, что ушло на похороны тети Розы, почти все свои заработанные деньги я спустил на Монику. Я об этом не жалею: этот расход себя оправдал. Это был для меня важный жизненный опыт, принц. Поздравляю тебя с побегом от Бобби; это мудрое решение. Надеюсь, оно поможет. Желаю удачи, привет Европе!
Перед отплытием в моей каюте первого класса состоялась короткая отвальная. Голдхендлер прислал корзину шампанского, к которому сразу же крепко приложились Ли и Берни. Мы с мамой тоже не отставали, пока папа ел фрукты и конфеты, которые он сам же и принес. Потом он вышел со мной на палубу и сказал, облокотясь на поручни и глядя на Гудзон:
— Твоя мать и я приплыли сюда в трюме. Нам бросали картошку и хлеб, как собакам. А ты возвращаешься в Европу с шиком.
— Благодаря вам, — сказал я.
— Ты уезжаешь от нее?
С папой не имело смысла играть в прятки, и я честно ответил:
— Пытаюсь.
— Это будет нелегко. — Он пожал мне руку и обнял меня. — Ну, сынок, ни пуха ни пера! Держи глаза открытыми и учись всему, чему можешь!
Путешествие первым классом на океанском лайнере в тридцатые годы доставляло такое удовольствие, которого мир уже больше не знает и не будет знать. Сейчас его не знают и миллионеры. На нынешних лайнерах нет той атмосферы, какая была тогда, — атмосферы, которую с некоторой натяжкой можно сравнить разве что с атмосферой при дворе Людовика Четырнадцатого. Так что мне было не так уж трудно уезжать от Бобби, когда я стоял на палубе и смотрел, как между мной и нею расширялся Атлантический океан.
* * *
К молодому человеку, путешествующему с деньгами, девушки льнут, как мухи к липучке. Были у меня кое-какие романы, ничего серьезного, я о них уже давно забыл. Как вы можете догадаться, когда мне доводилось в номере гостиницы услышать по радио песенку из мюзикла, в котором выступала Бобби, или когда я шел по Сент-Джеймсскому парку или по садам Тюильри и мне встречались обнимающиеся парочки, на сердце у меня начинало немного ныть, но я всегда находил, чем отвлечься. На лайнере я познакомился с профессором истории, с которым мы потом некоторое время вместе путешествовали, осматривая музеи Лондона и Парижа, и яростно спорили о религии, потому что он был ревностным христианином и готовился стать священником. Вместе с ним я побывал даже в «Фоли-Бержер» и еще в паре подобных мест. Мне было несколько неуютно находиться в такой близости от нацистской Германии и временами беседовать с людьми, которые только что в ней побывали и, по их словам, отлично провели там время. Я пытался не обращать внимания на истеричные речи Гитлера, которые я иногда ловил по радио, и на тревожные газетные заголовки об угрозе войны. Я ездил, куда глаза глядят, и в конце концов добрался до французской Ривьеры. В Марселе мне вдруг захотелось сесть на корабль и отправиться в Палестину, о которой Ли рассказывала столько хорошего. Но в это время я узнал, что в Канне начинается Bataille des Fleurs — карнавал с парадом и фейерверками, — и я поехал туда.
Находясь вдали от Бобби, я немало думал о ней — холодно и рассудительно. Она выиграла свою игру, поставив меня на колени — ну и что? Я мог себе представить: сидела она в баре с человеком, который был лично знаком с Эйнштейном — с человеком, к которому она рикошетом отскочила от меня и с которым она, конечно, переспала, — сидела и, само собой, зубоскалила про этого дурацкого еврейского радиохохмача Срулика; и тут вдруг, откуда ни возьмись, он сам, легок на помине, появляется из темноты и метели — и это после нескольких недель молчания — и с бухты-барахты делает ей долгожданное брачное предложение прямо перед носом эйнштейновского приятеля. Ну, как ей тут быть? Положение такое, что хоть об камень головой. И зуботычина, которую она мне тогда дала, если подумать об этом на расстоянии, представляется, по крайней мере, понятной.
Я вернулся в Америку и на работу к Голдхендлеру, не написав ей за все это время ни строчки, и после приезда я не пытался с ней связаться. Побег помог.
Бойд пробежал через аппаратную студии Н-8, самой большой в «Радио-Сити», с кипой программ, размноженных на мимеографе. У него все еще был тот землистый цвет лица, который поразил меня, когда я вернулся из Европы. Это был результат болезни печени, подхваченной им на Аляске, куда он ездил вместе с шефом; он никак не мог оправиться и выглядел как мешок костей. Голдхендлер же, напротив, был бодр и жизнерадостен, как никогда. Поездка на Аляску явно увенчалась успехом, хотя подробностей я не знал. День и ночь Голдхендлер беседовал по телефону с Клебановым, обсуждая технические проблемы, курсы акций и капиталовложения.