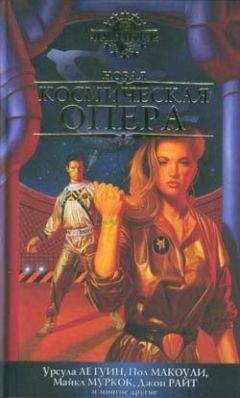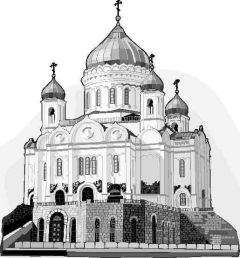Петр-священник прогремел с амвона Петром-апостолом и даже наклонился, чтобы своей рукой взять за правую руку несчастного калеку и утвердить его на ногах. Поглядеть на исцеленного в притвор Соломонов сбежался народ, а Петр (Петр-апостол) призвал иудеев к покаянию за совершенное ими убийство Начальника жизни и к обращению в веру Христа Распятого и Воскресшего. Недолгое время спустя апостолы были схвачены, ночь провели в темнице, а наутро, представ перед синедрионом и выслушав приказ до конца своих дней молчать об Иисусе, ответили… Слушайте! И помните: их ответ – это и наш ответ власти, запятнавшей себя невинной кровью; кесарю, под страхом смерти требующему от нас поклонения, аки самому Господу Богу; государству, в котором всякое верующее сердце безошибочно признает воплощенный замысел Антихриста. Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли перед Богом – слушать вас более, нежели Бога? И пусть у зверя сила сатаны, и престол его, и великая власть. Пусть вся земля кланяется ему, говоря: «кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним». Пусть все трепещут его, раболепствуют перед ним, славят его; пусть поют ему «осанну» – вместо Того Единственного, Кому должно ее возглашать! Но мы знаем, Кто наш Господь! И знаем, что власть не от Него – для нас не власть! И вместе с апостолами говорим: должно повиноваться больше Богу, нежели человекам! Аминь.
Тотчас, скрипнув дверью, выскользнул из храма всем здесь незнакомый человек. «Доносить побежал», – зашептало малое стадо.
– А ведь донесет, – искоса взглядывая на брата, говорил по дороге о. Александр. У того темнело лицо.
– Донесет. За тем и послали. Чего-чего, – помедлив, обронил о. Петр, – а Иуд и по службе, и по сердцу у нас в России всегда хватало.
– Так тебе лучше дома пока не появляться… Можно к нам.
Отец Петр пожал плечами.
– Да, да, я понимаю, – заторопился о. Александр и, забегая на шаг вперед, все поглядывал на мрачное лицо брата с резко обозначившимися на нем скулами. – Что у тебя, что у меня – все равно. А в деревню, к родне? В Высокое? Пока все не утихнет?
– В Высокое? К тетке Марье на печку? Или в подпол? И сидеть там до второго пришествия… И Евсевия почитывать. И над святителем Поликарпом, Смирнской Церкви епископом, умилительные слезы лить. Ах, мученик! Ах, бесстрашный! Ах, чадо Христово верное! Пусть, говорит, огонь, и крест, и стаи зверей; пусть разбросают мои кости, отрубят члены, смелют в муку все тело; пусть придут на меня муки диавола – только бы встретить Иисуса Христа. Читаешь, а сам уши востришь: пришли? не пришли? возьмут? не возьмут? убьют? не убьют? Тьфу! – Отец Петр даже сплюнул в знак безграничного презрения к укрывшемуся под теткиным подолом с «Церковной историей» в руках малодушному фарисею.
Отец Александр ощутил, как щеки его заливает краска стыда. А младший брат, припомнив гонения на старообрядцев, продолжал с сильным, горьким чувством.
В семнадцатом, восемнадцатом, да и в девятнадцатом веке их травили, как бешеных псов, о чем преподобный Симеон, пока был жив, безмерно печалился и неустанно за них, бедных, молился… Будто в языческом Риме при Нероне, так и в православной России при христианнейших царях всякая пытка благословлялась: огонь, топор, дыба – лишь бы креститься стали не двумя перстами, а тремя. (Хотя два перста, из них же один прообразует собой Человеческое, а другой, чуть согбенный, Божественное естество Христа, что означает глубочайшую нашу веру в Господа, оставившего небеса и сошедшего на землю, дабы, яко Агнец, безропотно отдать себя на заклание ради спасения рода человеческого; прочие же три являют собой Святую, Нераздельную и Единосущную Троицу – и таковое, с апостольских времен принятое перстосложение и догматически, и богословски не идет ни в малейшее сравнение со щепотью с кукишем наготове, коей мы знаменуемся кровавым усердием патриарха Никона.) И в Символе веры Духа Святого читали бы без «истинного», а только «животворящего»; и служили бы не на семи просвирах, а на пяти; и сугубую «аллилуйю» заменили бы «аллилуйей» троекратной… Боже мой! Отец Петр схватился за голову. Именем Христовым наша Церковь над ними лютовала, а теперь и ее час пришел.
– А ты это к чему – о них? – осторожно спросил о. Александр. – Ну было. У католиков инквизиция вообще народу без счета перевела. Что ж им – Богу, что ли, молиться перестать? Или храмы заново освятить?
– А к тому, – безжалостно ответил брат брату, – что не пристало мне тебе объяснять, что каждому воздает Бог по делам его: и человек свое получит, и народ, и страна. Был трон, был царь – а где он? Пальцем щелкнули – и пуст сначала стал трон, а потом и вовсе ненадобен. И что не документиками следует запасаться, а готовностью ко Кресту. У честного иерея нынче у каждого впереди Голгофа. А есть такие – да вот хотя бы нашего Кольку возьми – кто Голгофу за три версты объедет. Точно! Им лучше гвозди в руки и ноги Христу вколачивать, чем за Него страдать и умирать.
– Мне почему-то в Москве казалось, что я Николая непременно встречу. А когда с вокзала ехал, как раз через Лубянку и мимо дома того… Где гепеу, – понизив голос и оглянувшись, сказал о. Александр. – Не дай, думаю, Бог, он сейчас выйдет…
У о. Петра сузились и холодно блеснули глаза.
– А ты бы, – яростно потряс он сжатым кулаком, – его завидев, на правах старшего брата, и от всех нас, Боголюбовых, и живых, и в Царствии Небесном обретающихся, от Церкви, им преданной, – да по роже его блудливой! Ведь всех опозорил, целибат он говеный. У папы лет десять жизни отнял. И мама-покойница из-за него на том свете слезы льет.
– Ты скажешь, – буркнул о. Александр. – Он, может, сам не свой, а ты – по роже…
– Эх, – махнул рукой о. Петр, – не время еще льву с ягненком рядом лежать. Я тебе говорил, да ты, верно, не понял или испугался понять. Ничем иным, кроме как правдой, а стало быть, мученичеством нашу Церковь не спасти. И этот Гусев, он же Лейбзон, и Васька Смирнов, и бритый из Пензы, и Колька наш – они все порождение зверя. А зверю от нас что надобно? Одно: отречение от Христа. А не отрекся, не покадил Антихристу, не припал к его ногам со словами: «Ты бог наш, разве тебя иного не знаем», – будет тебе тогда прямая дорога сначала в тюрьму, а потом и на казнь. И не бегай, не виляй, не городи возле себя тын из охранных грамот…
– Я не для себя! – негодующе вскрикнул о. Александр. – Ради нашего храма… ради людей…
– Храм на крови – пусть даже незримый – во веки веков будет стоять. А в храм на лжи, – отрубил о. Петр, – строй ты его хоть из чистого золота, Бог не придет. Ладно, брат. Прощай. – И он резко повернул на Огородную (теперь, кажется, Советскую), в сторону Покши, где невдалеке от высокого берега, за крепким палисадником, стоял его дом, из окон которого открывался пленительный вид на заливные луга и Сангарский монастырь.
В иную пору он непременно постоял бы минуту-другую, любуясь чистым светлым небом, бронзовыми стволами сосен Юмашевой рощи, сочной яркой зеленью лугов и едва заметными белыми стенами и башнями монастыря, над которым, наподобие маяка, то исчезал, то снова посверкивал в лучах солнца золотой купол надвратной церкви. Но не до красоты Божьего мира было ему сейчас. Со вздохом: «Благодать!» и с мыслью, что не по делам человека ублажает его Господь роскошными картинами расцветшей земли, о. Петр толкнул калитку, прошел дорожкой между поднявшимися с обеих сторон левкоями, источавшими благоухание райского сада, поднялся на крыльцо и открыл дверь. Тишина в доме встревожила его.
– Анна! – громко позвал он, и тотчас услышал легкие ее шаги. Летела босая по крашеному полу, в цветастом ситцевом платьице, платочке на темноволосой головке и радостно сияющими, небесно-синими глазами. У него отлегло от сердца. – Вы тут что затаились, ровно мыши в норке? – он обнял ее за худенькие плечи. Десять лет замужем, а все как девочка. – А дверь не на замке. К нам в Сотников разбойников понаехало, целый отряд, а вы не бережетесь.
– Мой недосмотр, Петенька, – невпопад целуя его то в губы, то в бороду, сказала она. – Сигизмунд Львович к папе приходил, я за ним запереть-то и забыла.
– Неразумная ты моя головушка. Дождешься – поставлю тебя на поклоны.
– А мне нельзя, – таинственно и счастливо взглядывая на него, шепнула она. – Ты меня теперь на руках носить должен. Как в романах написано.
– Это с какой-такой стати? – говорил он, уже догадываясь и ликуя и в тот же самый миг с тяжелым сердцем припоминая весь сегодняшний день, в особенности же – выскользнувшего из храма человека, после которого осталось гнетущее чувство надвигающейся беспощадной злой силы. – Послушание мне от отца Иоанна?
– Ага. Послушание. – Она рассмеялась, потом всхлипнула и опять рассмеялась. – Ну тебя.
– Анечка! – едва вымолвил он. – Ты моя родная!
Как давней летней ночью на Покше, он подхватил ее на руки, дивясь, что в таком легоньком теле теперь живут две жизни, одна из которых в своей материнской глубине питает, растит и пестует другую – до поры, пока не придет час их разделения. Ах, дал бы ей милосердный Господь во здравии доносить долгожданное чадо и благополучно разрешиться от бремени!