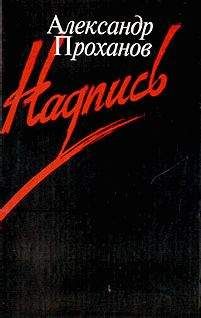Он пророчествовал, грозил, злорадствовал. Видел недоступную Коробейникову картину разрушения государства, которое лишилось приверженцев, оскорбило преданных слуг, поплатилось крушением.
- Но они ошибаются! Они хотели меня раздавить, но я еще жив! Я воскресну! Я ценен сам по себе! Мои знания, талант, мой опыт дороже любых номенклатурных пайков и связей! Я сделаю это паршивое издательство лучшим издательством страны! Привлеку самых талантливых авторов! Ко мне придут самые блестящие современные художники! Выйду на мои заграничные связи, и нас станут читать в Европе! Это будет взлет культуры, интеллектуальной смелости, эстетической новизны! Они еще увидят, на что я способен!…
Он воспылал дерзновенной мечтой. Стал прежним Стремжинским с глазами разъяренного быка, упрямого, яростного и бесстрашного. Но потом обмяк, сник, словно из него выпустили воздух.
- Не могу… Сломали хребет… Я собака с перебитым хребтом… Кто же нас всех предает? За что нам такое?…
Сидел, сутулясь, в своей жалкой каморке, былой властелин, громовержец, у которого вырвали пылающий трезубец молний, вставили в кулак пучок соломы. По блеклому, постаревшему лицу катились слезы.
Коробейников, мучаясь, сострадая, поднялся. Вышел из комнаты.
Вернулся домой и был встречен огорченной, встревоженной Валентиной, которая с порога протянула ему листок бумаги:
- Приходил военный, в форме. Заставил меня расписаться. Может, я не должна была это делать? Но я так растерялась…
Листок бумаги был повесткой, приглашавшей его, Коробейникова, явиться назавтра, в десять утра, в Комитет государственной безопасности, на Лубянку, в кабинет 507, к подполковнику Миронову А. Г. Штамп КГБ подтверждал достоверность повестки.
Эта блеклая, невыразительная бумажка вдруг повергла Коробейникова в оторопь. Словно в сознании открылись невидимые прежде скважины, и сквозь них хлынул страх. Страх был мерзкий, парализующий, немотивированный. Его усиливало бледное, беззащитное лицо жены, смех играющих в комнате детей. С этой повесткой в их дом проникла слепая, всесильная, беспощадная власть, угрожая хрупкому, беспомощному укладу.
- Ничего страшного, - произнес он, стараясь собой овладеть. - Думаю, что речь не идет о государственном перевороте.
Однако весь вечер, удалившись в кабинет, он пытался справиться с паникой. Лихорадочно перебирал все возможности и поводы, заставившие загадочного, сурового, с беспощадным лицом подполковника, напоминающего наркома Ежова, прислать ему эту повестку.
Его участие в «кружке» Марка Солима. Грядущий шумный процесс, наподобие тех, что проходили в Колонном зале в 37-м, с выступлениями прокурора Вышинского, со статьями в газете «Правда», когда на скамью подсудимых, среди белых колонн, озаренных хрустальными люстрами, выводили бледных, изнуренных допросами недавних государственных мужей, и те наговаривали на себя несусветные крамолы и измены, приближая час приговора. Тусклая лампочка в подвале тюрьмы, разрывная пуля в затылок.
Он готовился давать показания на ночном допросе, под разящим светом электрической лампочки. Беспощадный подполковник допытывается о его связях с заговорщиками, а он, умоляя, убеждает его, что не было связей, он случайно попал в «кружок», лишь дважды был в гостях у Марка Солима, слушал забавные истории про кофейное зернышко бедуинов, скульптуры Сальвадора Дали, не посвящен в хитросплетения заговора. Следователь молчит в пятне слепящего света. В углу стоит жестяное ведро с водой, валяется мокрая тряпка.
Или поводом для допроса послужила дружба с отцом Львом, церковным диссидентом, не скрывавшим неприязни к советскому строю, к партии, КГБ, замышлявшим издание рукописного православного журнала? Но ему, Коробейникову, не было нужды участвовать в самиздате, он обильно и эффектно печатался в государственной газете, а его отношения с отцом Львом носили не политический, а религиозный характер. К тому же Коробейников постоянно защищал от нападок друга мегамашину государственной власти и безопасности.
Или вина его состояла в том, что вместе с художниками-язычниками участвовал в подпольной выставке на опушке зимнего леса, дружил с Коком, был замечен в языческих игрищах и камланиях? Но туда его привело писательское любопытство, журналистская пытливость, и он собирался изобразить в газете экзотические и невинные забавы отшельников от искусства.
Он перебирал своих друзей и знакомых, общение с которыми могло скомпрометировать его в глазах всемогущего ведомства. Ловил себя на том, что в унизительном страхе, спасаясь, мысленно отрекался от близких людей, отгораживался от них.
Его ночь была тревожной, с клубящимися кошмарами, с пробуждениями. В зеленеющем окне, сквозь наледь, взирал на него немигающий беспощадный взгляд человека в военном френче с ромбами, в фуражке с синим околышем. Страх лился из неведомых донных глубин его души, соединявших его с истребленной родней. Арестованные и погубленные, бежавшие за границу и павшие на Гражданской войне, сгинувшие в штрафных батальонах и ссылках, изнемогшие на этапах и лесоповалах, исчахнувшие в тифозных бараках и карцерах. Они посылали в него ночные импульсы страха, и он знал, что этот страх, поднявшийся из донных глубин как потаенные грунтовые воды, не исчезнет в его детях и внуках, станет питать их ночные кошмары, управлять их явью.
Утром Валентина, бледная, трепещущая, провожала его до дверей, как если бы им уже не суждено было встретиться. Желая ее подбодрить, он неловко пошутил:
- Смену белья и сухари приготовила? - Поцеловал жену в холодный лоб.
Здание на Лубянке высилось громадным помпезным фасадом, перед которым крутилась дымная карусель машин, сворачиваясь в урчащий сгусток. После крещенских морозов настала сырая февральская оттепель. Желтый фасад покрылся пепельно-белой шубой, словно здание было проморожено насквозь. В нем проступила вечная мерзлота, и в его глубине, заледенелые, сохраненные навек, как муляжи, сидели чекисты, следователи, арестованные, конвоиры с винтовками и штыками.
Коробейников нашел бюро пропусков в соседнем здании. Сунул в окошечко повестку и паспорт. Через некоторое время рука в военном кителе протянула ему пропуск. Голос невидимки произнес:
- Подъезд номер два.
Коробейников, робея, поднялся по гранитным ступеням, ухватил огромную, окованную медью рукоять, потянул на себя. Высоченные дубовые двери мягко отворились. После влажного снежного холода он очутился в теплом вестибюле перед выгородкой, за которой стоял военный пост: два сержантах синими петлицами и с пистолетами в кобурах и один, проверяющий документы. Он долго просматривал паспорт Коробейникова, сличал фотографию, всматривался холодными серыми глазами. Этот цепенящий взгляд, казалось, был предусмотрен уложениями и правилами, имел целью парализовать волю визитера, поставить его в полную зависимость от обитателей грозного здания.
Взволнованный, чувствуя себя неловко и неуверенно, Коробейников прошел к лифту. В просторной старомодной кабине, окруженный молчаливыми, замкнутыми людьми, поднялся на пятый этаж. Двинулся по длинному коридору вдоль одинаковых высоких дверей с номерами. Навстречу попадались служащие в гражданской одежде, несущие какие-то папки, скорее всего, с показаниями арестованных. Несколько военных, сосредоточенных и торопливых, могли быть начальниками конвоя, получившими приказ кого-то этапировать. Здание было таинственным, заколдованным, полно видений, невнятных голосов, с обманчивой простотой интерьера. Коробейников отыскал высоченную, из светлого дуба, дверь с табличкой «507». Постучал. Не дожидаясь ответа, открыл. Просторный кабинет, обставленный в стиле 30-х годов, был наполнен зимним неярким светом. Над столом висел портрет Дзержинского с иезуитской бородкой. Под портретом, поднявшись из-за стола, стоял хозяин кабинета, в котором Коробейников изумленно узнал Андрея, знакомца, посетителя «кружка» Марка Солима - его утонченное, миловидное лицо, мягкие губы, душевные глаза, легкая застенчивость и любезность во всем моложавом очаровательном облике.
- Вы? - тихо ахнул Коробейников. - Подполковник Миронов?
- Входите, Михаил Владимирович, - пошел ему навстречу хозяин кабинета. - Я подполковник Миронов Андрей Георгиевич. Должно быть, мне следовало просто позвонить вам домой, по-товарищески. Но в нашей встрече есть некоторая доля формальности, и я счел за благо оповестить вас повесткой.
После рукопожатия Миронов усадил Коробейникова за небольшой столик, примыкавший к тяжеловесному столу, сработанному мрачными столярами сталинской эпохи, своей тяжеловесной эстетикой напоминавшему здание Госплана, гостиницу «Москва», Академию Фрунзе, громадную кубатуру Военного штаба напротив Парка культуры. Сам Миронов, изящный, в красивом костюме, с небрежно и вольно повязанным галстуком, вернулся за этот стол, унаследованный от другого поколения крупных, тяжеловесных людей, с могучими лбами и выпуклыми надбровными дугами.