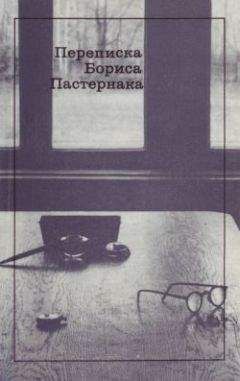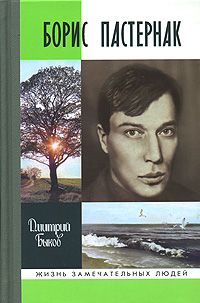В тот день, когда отец, нашутившись над дураком Махако, показал сыну живой подарок, Хадко тут же решил, что этот подарок — для мести. Возможно, боги проявили милосердие, устроив все так, как случилось. Страшные видения разрывали голову Хадко: горящие чумы Пяков оголяют остовы и падают, разбросанные по становищу камни очага обреченно шипят в снегу, собаки со стрелами в боках скулят и трясут отмирающими лапами, обезумевшие олени убегают в лес; старый Пяк скрючился жирным червем — из его спины торчит лезвие пальмы, прошедшей сквозь мясо и кости… И дочь Пяка — Хадко лишь потом узнал ее имя: Мядуна, Рожденная В Гостях, — извиваясь, уползает от него. Ужас в ее глазах приятен ему, и предчувствие справедливого дела — казни женщины, кощунственно, оскорбительно отвергнувшей его, Хадко, сумасшедшую любовь, душит сомнения и дает бодрость телу…
Хадко плюет в лицо Мядуне (он постоянно напоминал себе — плюнуть надо обязательно), смеется, так же легко и заливисто, как смеялась она, и поднимет железо над ее головой…
Возможно, видения стали бы явью. Но все привело к войне с Вайнотами и к тому, что Хадне перестала удаляться в чум, где женщинам положено проводить дни своей ежемесячной нечистоты, чем и вызвала первые подозрения свекрови.
Однако месть, насытившись, удалилась, и следом пришла другая напасть — страшнее прежней. Хадко придавила вина. Она мучила его так же неотступно, сделала вялым, раздражительным, невидимо и сильно отталкивала от людей, от разговоров и дел. Хуже всего оказалось то, что Хадне не выказывала ни обиды, ни злости, ни слез. Она не сторонилась невольного мужа, но и не шла к нему. И Хадко мучился и, мучаясь, надеялся, что она сама, первая скажет ему хоть слово — любое, самое простое, даже ненужное — попросит принести воды или унять расшумевшихся собак. Он искал себе дело в становище и делал ненужное — проверял узлы на нартах, завязанные намертво, делал женскую работу — носил хворост и рубил дрова. Он до последнего надеялся, что Хадне позовет его есть, и пускай не будет в ее словах приветливости, пусть будут только слова… Но к еде звала мать и ворчала, что вечно он заставляет себя ждать.
Им уже стелили вместе: Хадне не показывала ни страха, ни отвращения — она просто отворачивалась, засыпала и спала безмятежно… Хадко погружался в сон краткими провалами и вставал задолго до рассвета. Руки его, сильные, способные к настоящей войне и великой охоте, омертвляла робость. Он стыдился своих рук, стыдился всего себя…
Он ни разу не прикоснулся к Хадне — даже к одеждам ее.
Отчаяние разбудило его язык, когда он сказал посланникам Вайнотов, что не отдаст невесту, и велел им убираться. Сын Мэбэта надеялся, что само это отчаяние и храбрость, которую он наверняка проявит в войне, спасут и хоть немного обелят его. Однако ни война, ни победа ничего не изменили. В отчаянности Хадне превосходила Хадко. Человек Пурги понимал это. Он чувствовал, как гибнет его душа, и если оставить все на волю времени — погибнет он сам.
Через месяц после войны Хадко исчез, а вместе с ним ездовой олень, нарты и Войпель. Мэбэт в тот день еще не вернулся с большой охоты.
— Куда уехал твой муж? — спросила Ядне невестку.
— Он не говорил мне.
— И нарты взял, — сама себе проговорила мать. — Зачем ему большие нарты?
Хадне вздохнула полной грудью и блаженно потянулась.
— Наверное, хочет набить много маленьких птичек…
Слова невестки не понравились Ядне, но она промолчала, лишь заметила про себя: ту угловатую, до немоты перепуганную куколку можно забыть совсем — пришла женщина.
Днем, при высоком солнце, вернулся Мэбэт и тоже спрашивал о сыне. Ответ жены встретил спокойно, как и все другие ответы, которые ему доводилось слышать. Он устал — устали собаки и олени. В нартах, под жесткой, пахнущей кровью шкурой плотными кряжами лежало разрубленное мясо сохатого. Несмотря на усталость, Мэбэт начал перетаскивать огромные куски в лабаз, который находился на небольшом отдалении от становища. Последний кусок любимец божий принес обратно:
— Это — в котел, — сказал женщинам. — В лобазе места нет. Какая надобность в новой охоте?
Ту зиму семья Мэбэта прожила, ни разу не задумавшись о еде и не испытывая нужды ни в чем.
Однако то, ради чего Хадко исчез так неожиданно и тайно, было больше, чем охота. Наследник любимца божьего ехал за подвигом. Подвиг спасет его душу, саму жизнь и прекратит мучения. С этой страстью он тиранил хореем оленьи спины и гнал упряжку, сам толком не зная куда. И когда олени, не желая умирать от бега, встали — мысли хлынули в голову сына Мэбэта.
Они не были печальны, эти мысли. Хадко не был знатоком женских душ не только по причине молодости: для людей тайги женская душа предмет менее интересный, чем новые волосяные петли. Но все же одно нехитрое знание у него было — женщину сломит подарок. Ему же, Хадко, нужен дар, равный чуду. Он должен добыть чудо, нечто невиданное, неслыханное, то, отчего сердце Хадне растает, как пригоршня снега в кипящем котле, и от вины не останется даже памяти.
На самом деле Человек Пурги не думал — он мечтал. Когда он сам осознал это, мечты превратились в мысли, и сын Мэбэта растерялся, чувствуя, как возвращается тоска. Он вдруг понял, что не совсем знает, каким должно быть это чудо. Хадне не прельстится горами дичи. Можно наставить петель и в стойбищах других родов выменять добычу на расшитую одежду и украшения из желтого железа. Но весенние меха некрасивы и ценятся низко. Если соболи и лисы стаями пойдут в его петли, все равно он не купит чуда на их блеклые клочковатые шкурки. Да и не всякое становище богато красивыми вещами и расшитой одеждой. Там же, где есть и то и другое, возможно, придется убивать или, что еще хуже, красть, а Хадко не хочет этого. Подарок должен быть чист.
Четверо — несчастный человек, олени и собака — стояли посреди тайги и не двигались с места. Солнце взошло высоко, насколько высоко позволено ему восходить на исходе зимы. Воздух был прозрачен, и ветер молчал. Тишина застыла, и только следы какого-то непонятного движения опускались на землю едва уловимым отзвуком. Вокруг не было никого — только тайга, и Хадко решил отдаться ее власти, подчиниться ее воле — больше ему ничего не оставалось. Он не жалел о своей опрометчивости…
Он разгрузил нарты и принялся сооружать временное стойбище. Потратив на эту работу немного времени, Хадко и Войпель отправились на охоту — только ради того, чтобы добыть еды на завтрашний день. На сегодняшний вечер имелся запас, хоть и невеликий, легкомысленно невеликий. До заката Хадко добыл двух тетерок, одну оставил для Войпеля, другую спрятал в нарты — для себя.
Утром началась работа: наследник Мэбэта расставлял петли, искал следы, выслеживал зверя, возвращался в становище и со следующим восходом начинал то же самое… Так продолжалось изо дня в день. Трижды Хадко нападал на след сохатого, но не стал гнать: слишком давний был след, да и лось — не та добыча, которая нужна Человеку Пурги.
С каждым закатом мрачнело его сердце. Тайга словно дразнила его, но чтобы сполна насладиться своей властью, не давала умереть с голоду и подбрасывала подачки: однажды в петле запуталась облезлая, жалкая лиса, а вскоре Войпель притащил в пасти живого зайца. Тайга посылала малых птиц, их тушки, вздетые на рожны, каждый вечер шипели над огнем… Тайга молчала.
Несколько раз Хадко менял становища. Подтаявший на поверхности снег за ночь затвердевал ледяной ранящей коркой, и потому олени дочиста обгладывали кору на деревьях вокруг походного чума. Все реже в огромных небесных глазах Войпеля виделась радость и гроза.
Иногда Хадко, разглядывая подаренный отцом кривой нож, вспоминал ту великую охоту, предпринятую ради калыма, — и думал о превратности удачи. Он размышлял о том, что во всякой добыче есть не только сила и навык, — в добыче есть милость тех, кто правит всем живым. Его отец верил лишь в себя и ни в какой другой вере не нуждался. Но таких, как отец, больше нет. Так же как нет более глубокой западни, чем та, в которую попал он, сын Мэбэта. Всем другим людям на свете сейчас лучше и проще, чем ему.
Пока не было рядом отца, Хадко испытывал сильное желание поступить, как поступают другие люди: они приносят жертвы, говорят какие-то слова, собираясь на охоту. Они делают также, когда в их жизни случается что-то очень важное. Но Человек Пурги не знал нужных слов, не знал, как приносить жертвы. Отец ничему не учил его, а то, что сам Хадко очень давно видел у других людей, было почти забыто. Иногда ему казалась, что подступавшее временами ощущение бессилия происходит именно от этой бессловесности. Ночами он смотрел на звезды, на большое, размазанное по небу белое пятно и вспоминал, как мать рассказывала ему: давным-давно люди всех племен и родов, что были в тайге, гнали зверя, загнали на небо, и уже нет им пути на землю, а они все гонят и гонят, и так будет всегда… И зверь тот был чудесный, таких уже нет в срединном мире.