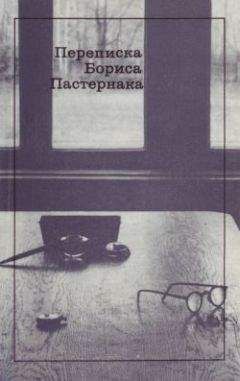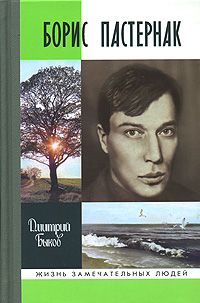Когда Мэбэт и Хадко вплотную подошли к внешней безопасной стороне частокола, оставшиеся Вайноты не изменили позы для стрельбы с колена. Но луки были опущены, и железо наконечников глядело в землю.
Первым заговорил Мэбэт:
— Здравствуй, Вильчатая Стрела, — ведь, кажется, такое у тебя прозвище?
Няруй не ответил.
— Теперь, вместе с тобой, вас пятеро, нас — двое. Достойное соотношение для честной войны. Ведь вы, Вайноты, уважаете только честную войну? Ваши старики были правы, я послушал почтенных людей и, чтобы не искушать судьбу, решил сначала чуть проредить твое войско. Пусть это не совсем по уговору — и место не то, что назначено, и время не самое раннее — но я думаю, это не так уж важно. Сейчас мы — я и мой сын — можем биться с вами на пальмах.
Няруй был великодушным человеком.
— Я почту за честь биться с тобой, Мэбэт, один на один. Но зря ты говоришь о честной войне. Не тебе о ней говорить.
— Разве я один нарушил уговор? — спросил Мэбэт.
— Не об уговоре речь. Свою жену ты уподобил куску протухшего мяса, как приманку для песца. Посмотри. — Рука Няруя указала туда, где за провалом в частоколе под легким ветром снежно дымилось открытое белое пространство. — Там лежит твоя жена со стрелой в спине. Чудо, что ваши же стрелы не убили ее сразу, но сейчас она, наверное, уже мертва.
Мэбэт побледнел. Он видел, как Ядне вырвалась со становища, но о стреле ничего не знал. К тому же сказанные Няруем слова о куске тухлого мяса были правдой — хотя Ядне сама упросила мужа дать ей эту роль в замысле войны.
— Мама! Ма-а-ма! — закричал Хадко. Он звал мать, но с того места, на которое указала рука вожака Вайнотов, не донеслось ни звука.
— Иди к ней, ищи ее, — хрипло велел Мэбэт сыну.
Было видно — все в душе Хадко страдает и мечется.
— Ты останешься один против пятерых.
— Не беспокойся обо мне, — ответил Мэбэт.
— Их пятеро…
Неумолимый рык отца едва не уложил Хадко в снег:
— К ней!
Но прежде чем Хадко успел сделать шаг, вздрогнув, осыпалась снегом лиственница — из ветвей ее выпала в сугроб маленькая фигурка и, заправив за спину небольшой, слаженный по росту лук, бросилась в белое поле. Снег доходил ей почти до пояса, и было видно, как фигурка падает, исчезает в белом, но поднимается и бежит, снова падает и снова поднимается…
Это была Хадне.
В тот день, когда уехали посланники Вайнотов, у любимца божьего и в самом деле не было замысла войны. Ум его нуждался в уединении. Мэбэт ушел к речному берегу, неподалеку от становища, сидел на камне и думал. Никто не решился бы подойти к нему в такую минуту.
Вдруг случилось странное — Мэбэт вздрогнул. Почти у ног его упала большая черная птица: в теле ворона засела стрела, и это была его, Мэбэта, стрела — с насечкой по древку и орлиным опереньем. Любимец божий обернулся и увидел: в десятке шагов от него стояла Хадне с луком в руках.
— Этот слишком тяжел для меня и тетива туга — мне не под силу, — сказала Хадне, почтительно не поднимая глаз. — Нет ли у вас лука поменьше, такого, чтобы сгодился для меня?
Это был один из редких случаев, когда удивление настолько захватило любимца божьего, что он даже не смог подумать о том, что кто-то другой — тем более женщина — осмелился прикоснуться к его оружию.
— Теперь вы мой род, — опередив ожидаемый вопрос, сказала Хадне.
В тот же день Мэбэт нашел оружие для маленькой женщины.
Еще в детстве ради забавы старшие братья научили ее стрельбе из лука. Наука пригодилась: прячась в ветвях лиственницы, она пускала стрелы в Вайнотов, в своих родичей. Хадне не знала, сколько человек убила, но в том, что ее стрелы осиротили много семей, не было никакого сомнения.
И теперь все — и Мэбэт, и Хадко, и Вайноты, — забыв обо всем, смотрели туда, куда бежала Хадне. Вот она остановилась, сняла со спины лук, отшвырнув его, прошла еще несколько шагов, скрылась в снегу, потом встала во весь рост и, размахивая руками, кричала что-то. О чем тот крик, никто не разобрал, да и не было в том нужды. Хадне нашла Ядне. Она помогла ей встать, и вот уже две фигурки, то появляясь, то исчезая, замаячили в белом пространстве. Жена Мэбэта могла двигаться — значит, она была жива.
Туда, к невесте и матери, бросился Хадко. Мэбэт остался один против пятерых врагов. Но за то время, пока его сын бежал, война кончилась.
Няруй первым понял это. Вязкая, смрадная, бездонная, как болото, пропасть позора — позора глупого поражения в войне за украденную девушку — поглотила его. В опустошенном сердце Вильчатой Стрелы не осталось даже малой частицы гнева на маленькую женщину, предавшую род и убивавшую родичей.
Няруй поднялся во весь рост, воткнул древко пальмы в лиловый от крови, рыхлый снег, лезвие приставил к горлу и дал своим ногам сделаться мягкими.
Он был хорошим вожаком. Вот уже много лет род Вайнота доверял ему дело войны и не испытывал убытка.
Пустые нарты, взятые Няруем для добычи, пригодились, чтобы увезти мертвых, — Мэбэт и Хадко сами укладывали тела. Ошалевшие от страха олени, чудом не поврежденные под градом стрел, мчали по становому пути этот аргиш мертвецов. На каждой из двух упряжек сидело по двое уцелевших Вайнотов. Хореи остались на дне нарт, о них забыли и завалили телами. Неудобства возницам в том не было: олени сами знали, куда бежать — только бы подальше от страшного становища.
Слава Мэбэта
Весть о победе над войском Вайнотов свирепой метелью пронеслась по тайге и тундре и поразила всех настолько, что еще долгое время люди не знали, чем ответить на это событие.
Явным был только один ответ. Мысль о Мэбэте, любимце божьем, человеке не сего мира, стала еще крепче и превращалась в веру. Но эта вера не успокаивала людей.
Мучились люди. После той чудесной войны в их мире снова разверзлась дыра. Само существование непостижимого человека из рода Вэла внушало им кощунственные мысли о том, что сила бесплотных преувеличена и сами имена их перепутаны, отчего жертвы и заклинания уходят в безмолвную пустоту, и обычай лжет, и законы бесполезны.
Страшная, позорная участь Вайнотов еще выше вознесла Мэбэта в глазах людей. Он понимал это, но не испытывал ни гордости, ни радости. Разве что усмешка — та легкая божественная улыбка, сохранившаяся от юности, — пролетала над его лицом при этой мысли. Взять власть над людьми, стать одним из тех великих вождей, память о которых еще осталась в стариковских сказках, было для него легче, чем поднять оброненную рукавицу. За рукавицей Мэбэт нагнулся бы не задумываясь, нагибаться же ради чего-то другого он не хотел. Того, что он имел, было ему достаточно, и даже слишком…
Пересуды людей о родстве Мэбэта с бесплотными поначалу лишь веселили его. Потом, некоторое время спустя, он задумывался об этом почти всерьез. Однако то и другое было забавой, ибо страха удачливого человека перед тем, что рано или поздно удача отвернется от него, любимец божий также не знал. И теперь, когда он мог оглянуться и увидеть многое позади себя, одна мысль становилась в нем все яснее и проще. Его счастье не в том, что он сильнее и удачливее других: счастье в том, что он почти не помнил, когда страдал. В памяти Мэбэта оставались мгновения гнева, краткое желание мести, недолгая раздражительность, но страдание, которому люди слагают бесконечные, тоскливые песни, никогда не задерживалось в нем настолько, чтобы оставить после себя хоть сколько-нибудь заметный след.
Он смотрел на людей и видел, что страдают они друг от друга и сами мастерят в своих головах причины для новых страданий. А когда обрушится на них вся громада ими же сделанного, они плачут, жалуются бесплотным или клевещут на них и осыпают проклятьями. И поэтому, с усмешкой думал Мэбэт, бесплотные нуждаются в сострадании более, чем смертные.
Чем дальше уходила от людей душа любимца божьего, тем меньше оставалось в ней места для страдания, которое превращалось в бледный, почти несуществующий, призрак. Это Мэбэт знал по себе — того же он хотел для тех, кто был рядом. Уводить от людей было его добротой, а иной доброты он не знал. Его душа омрачалась лишь тем, что близкие принимают его доброту не с открытым сердцем, а больше по въевшейся привычке почитать старшего и сильного.
Конечно, не только люди придумывают страдания друг для друга: есть болезни, голод, мороз, от которого каменеют птицы. Есть смерть — и это придумано не людьми. Но право на жизнь достается тому, кому оно по силам. И размышления о смерти — пустая трата времени и сил. Пока жив человек — смерти нет: смерть придет — человека нет. О чем тут размышлять? Да и в смерть, по правде говоря, Мэбэт не верил. Он видел, что седеет, но не теряет силы — она даже растет в нем. И если бесплотные ни разу от начала его века не отказали ему ни в чем малом, то разве откажут в большом?