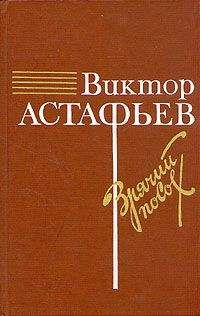Лежа под капельницей, Скороход вспоминал Узбекистан, где жил некоторое время после армии и откуда успел уехать незадолго до распада СССР. Чем гордился, хвалил себя за дальновидность: пока смотрю вперед – не пропаду и сам, не дам пропасть и своим скороходикам.
Сегодня они, кстати, должны приехать к нему. Светка и Павлик. Верка не сможет – у нее на первом плане молодой муж, а не отец. Медовый месяц. Светка учится в техникуме, сейчас у нее каникулы. Павлик, поскрёбыш, в четвертом классе. «Хорошо, что дети приедут»,– рассуждает Скороход, открывает глаза, глядя на дверь. Тихо. Пока нет. Только сосед Петрович, как раньше и он, пять лет назад, чавкает ртом: преднизолон, холера!
Ага, вот и дети. Они здороваются с отцом, Скороход едва заметно улыбается: доволен. Не забывают. Молодцы.
– Садитесь, – предлагает он.
– Сядем, – весело отвечает Светка, а сама суетится: набивает продуктами тумбочку, а сверху, на крышку , положила несколько «систем», свежие газеты.
И потом только садится рядом с Павликом на подставленную им табуретку.
– Как там, дома? – выдержав паузу, смотрит на детей Скороход.
– Нормально, – кивает Павлик.
– Дома хорошо, – улыбается Светка.
Молчат. Скороход, видимо, вспомнил дом, который стоит почти в самом центре райгородка; от Гомеля, где он теперь лежит в пульманологии, полчаса езды на автобусе.
– Сено затащили на чердак? – Скороход посмотрел на капельницу, на детей.
– Ага. Затянули. И сразу к тебе, – ответила Светка.
– Одни? Или Верка со своим помогли?
– Одни...– опять ответила Светка.
Скороход недовольно хмыкает:
–А они, вишь, запанели. Только деньжат дай, батька. А фигу! Хватит! Всему когда-нибудь бывает конец!.. Свадьбу им сделай, еще какую-либо ерунду придумают. Я это им вспомню. Спать они будут мне в обнимку! А... а торфокрошку в хлев они хоть занесли? У ворот лежала куча. Я их просил, прежде чем в больницу уехать.
– Не видела я, – неуверенно шевельнула плечом дочь.
– И я не видел, – соврал Павлик, поскольку торфокрошка как лежала, так и лежит на том же месте.
– Ослепли, вижу, все,– ворчливо выговорил Скороход. – Лечиться надо. Очки покупать.
– Папа, – постаралась улыбнуться Светка, – тебе же нельзя волноваться. У тебя же сердце больное.
Вроде бы внял совету дочери. Но через минуту поинтересовался:
– Липу на дрова попилили? Или так и лежит?– Ясно, – опять скривился весь, вроде от зубной боли. Как день ясно. Вам бы только всем тянуть из меня последние жилы. Только бы есть да пить. Чувствую, без меня там и кролики подохнут. Павел, кролов кормишь?
– Кормлю...– Павлик потупился.
– «Кормлю...» , видать, кинешь одну на всех свеклину – и гулять. Смотри у меня, за каждого ответишь!.. За каждого!.. Спрошу!.. Тачанку, мать вчера говорила, сломали. Кто сломал? Молчите. А что тут скажешь? Ломать не строить, мать вашу!.. Вы хоть печь не развалите, пока я в больнице. Света!
– Ну, чего? – на глазах дочери показались слёзы.
– Ты не плачь, не плачь. Москва слезам не верит, а я что – должен верить? Не плачь. Помогай матери. Хватит баклуши бить, хватит!..
– Помогаю... – дочь вытерла носовым платком слёзы.
– Знаю, как ты помогаешь. В отличие от вас, я не слепой. Знаю-ю... Р...работнички, мать вашу!..
Светка и Павлик сидели перед отцом и плакали. Не стесняясь даже усатого дядьку, Петровича, который сперва ковырялся в свертках с едой, а тогда, увлекшись, разинул рот и следил, краснея, за Скороходом.
Дети молча поднялись. Молча подались к дверям. Скороход вытащил из вены иглу, придавил кровь кусочком ваты. Хотел было догнать их, но не смог: закружилась голова, стало тяжёлым, непослушным тело.
– Со... сосед... Петрович, – слабым голосом позвал он.
Но Скороход не заметил, как Петрович выскользнул из палаты вслед за его детьми и, задержав тех в коридоре, будто оправдывался за отца:
– Вы ему простите. Это болезнь всё... Да и вы же... и вы же немного умнейшими будьте. «Попилили липу на дрова?» – «Так точно!» – «Крошку занесли?» – «А как же!» Умнейшими, ага, будьте. А пока отец вернется – попилите и занесёте. Его преднизолон тут надолго задержит. Тем более после вашего посещения...
Вернувшись в палату, Петрович, глянув на койку, где лежал его сосед, всё понял... И уже мёртвому Скороходу сказал :
– Дурень!
Для многих жителей Лосевки московская олимпиада 1980 года была обычным, рядовым событием. Понятное дело: живут в этой красивой лесной деревеньке одни старики, а им некогда было привыкать поклоняться спорту, они все время, сколько помнят себя, поклонялись родной земельке. Поэтому появление в Лосевке Мишули, который, знали, давно живет в Москве, никак не связывали с олимпийскими играми. Приехал да и приехал земляк, мало ли кто приезжает. Пускай отдохнет, по знакомым тропкам походит, родным воздухом подышит, басурман этакий. Только вот что-то больно долго Мишуля дышит – истек август, потом сентябрь, октябрь незаметно нагрянул... А он, гляньте вы, и не возвращается назад в белокаменную. «Жена вытурила!» – единогласно решили сельчане, но напрямую у Мишули спросить – так или не так – не отважились: живет себе человек в отцовском доме, никому не мешает, пускай и дальше живет. Его дело. А когда Мишуля начал искать хоть какую-то работу, ведь одной картофелиной сыт не будешь, да и на выпивку тратит много человек, то все сомнения сельчан отпали сами по себе: ну, а мы что говорили? Вытурила жена, кто бы спорил!..
Жена? Может, и она приложила здесь свои руки, кто знает, но факт остается фактом: в родной Лосевке Мишуля оказался на время олимпиады – всех пьющих , чтобы те, видать, не попадались гостям на глаза, отправляли подальше от столицы . Мишуле, кроме как в свою Лосевку, и ехать было некуда, а за сто первый километр, куда высылали большинство таких, как он, отправляться, наверное, не пожелал: испугался, возможно, что это будет что -то вроде зоны...
Так вот он и появился здесь. Седой, с морщинистым лицом, в искомканном костюме, с маленьким обшарпанным чемоданчиком в руке. Запомнилось еще сельчанам, что был он на хорошем подпитии, и, прежде чем идти к отцовскому дому, на дверях которого давно висел огромный ржавый амбарный замок, завернул в сельмаг и опрокинул бутылку вина – не отходя от прилавка, жадно, одним махом, а потом сказал разинувшим от удивления рот землякам:
– Душно сегодня. Фу-у-у! Жарко. После обеда , похоже, дождец будет. Фу-у-у!..
На что кто-то из сельчан заметил:
– Тебе лучше знать, будет дождь или нет, ведь живешь рядом с синоптиками. А мы – далеко. Хотя он, дождь, и нужен: засушливо на дворе, погорит урожай. Ты, Мишуля, если раньше поедешь, то шепни там предсказателям погоды, пускай пообещают. Заглянь в их конторку, не поленись. Далеко они там от тебя или нет сидят?
– Для земляков сделаю,– пообещал Мишуля.–Я их заставлю говорить то, что надо вам. Д... даю слово: будет дождь. Готовьтесь. Ждите. А сейчас пошел отдыхать с дороги. Москва, между прочим, не за Репищем, от нее до нашей Лосевки неблизкий свет, устал ... И-у!.. Отосплюсь, тогда и поговорим. Будет про что. – Он еще раза два икнул, подхватил, по всему видать, полупустой чемоданчик, и, заметно пошатываясь, пошаркал из сельмага.
А люди, проводив его взглядами, постояли еще чуток молча, а тогда вспомнили-припомнили Мишулю в молодые годы, его отца, Степана, который не вернулся с войны, мать, Настю, что так и не вышла больше замуж, так одна и вырастила четверых детей, а век доживала, как это часто бывает, в одиночестве.
Как и все дети, Мишуля рос на глазах земляков. Почти все они отметили тягу Мишули к технике – он постоянно пропадал на мехдворе: сперва прицепщиком работал во время летних каникул, а когда подрос немного, то уже не оторвать было от автомашины, так и крутился около Ивана Авдеева, подмазывался, чтобы тот дал посидеть за баранкой. Старший и самый опытный колхозный шофер уступал парню, а потом – ну и смелым же человеком был этот Иван Поликарпович!– нередко оставлял в кабинке одного Мишулю, а сам шел домой и что-то делал по хозяйству. «Да что за ним следить? Он, братки, ездит лучше, чем некоторые наши шофера!.. »
Закончил Мишуля школу или нет, никто толком не помнит. Бегал с полотняной торбой, как и все, а в какой класс –так кому ж сегодня за давностью про это знать? А только в один летний день Мишуля исчез из деревни – поехал, говорили, в Москву. Не удивились, ведь там давно и оседло жили многие его родственники – тетки и дядьки. Они пообещали, наверное, помочь с пропиской и крышей над головой. В деревне жизнь шла своим путем, другой раз ухабистым, с выбоинами, а иногда – и с песней и стопкой, и вскоре про Мишулю люди и вовсе забыли. Иногда, правда, его вспоминали парни-ровесники, а то и помоложе кто, которые когда-то завидовали ему, когда видели за рулем автомашины. «Повезло же, а ! Мне бы так!..»