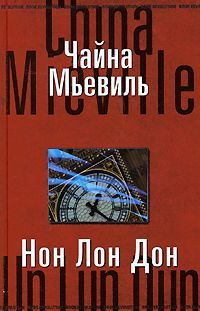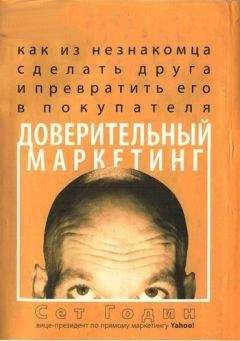Подобно немому на тонущей барже, закрытому в трюме, он мог лишь этим стуком звать на помощь, но он не судорожно бился в переборку при виде поднимавшейся воды — сухая вода уже заполнила объем, — послушно повторял вот эту аскетически простую формулу — четыре удара в рефрене с дроблением четвертого акцента на четыре единицы; четырехкратные повторы убывают с неумолимостью до одного. Единый Бог и те три ангела, в чьих образах явился Он бесплодной Сарре. Как будто вечный движитель включился в нем, работающий вхолостую; Камлаев так и просидел всю ночь перед раскрытым в пустоту окном, уже похожий на перетертую ту глину, которую никто не вызволит из остального праха, и так теперь и двигался, постукивая деревянными колодками, оповещая чистых и здоровых о своем приближении, — сам себе метроном, между ударами которого сыпуче проходила вечность. Только это осталось, соблазн взять скальпель и пинцет, которым вынимал из формалина кусочки музыкальных тканей и складывал в забавные мозаики, которые неплохо продавались — за деньги и «бессмертие», за звание последнего живого музыканта среди мертвых… этот соблазн ушел.
Про Сарру получилось бы смешно, невероятно, до надрыва живота. Вместо соития столетнего с такой же ветхой женой — экстаз единения шиза с порождением собственного больного сознания. Немного поглядел во тьме и тишине на язычок свечи, услышал «голоса» — и сохлое, морщинистое тело отцветшей, выпитой старухи натянулось, окрепло и помолодело, седое, мертвое живым и плодным стало, призрел, как говорил, и сделал, как сказал; налились никогда никого не кормившие груди, засочилась зеленая свежая кровь из порезов на жестком стволе, и живот отвердел, округлился и выпер в реальность — приматом совершенной, неколебимой веры над доводами трезвого рассудка, — рос, рос неудержимо, переполняя жалкую, слепую, дряхлую шизофреничку благодарностью, и боль скрутила там внизу, и схватки начались у неспособной отличить самовнушенные признаки беременности от того, что слупила вчера, что не усвоилось в раздутом животе, и разродилась, вытолкнула, выпустила, да, но только по какой трубе, что там за лужа, что за вонь? Почему не кричит никто, а? Негодующе, чисто, призывно, ликующе? Что там такое из нее, будто из пушки, вылетело, а? У-ха-ха-ха-ха! У-хи-хи-хи-хи-хи!..
Кружил вокруг да около их дома, бывшего собственного, общего, то на машине, то пешком — пугаясь затянуть петлю одной и той же траектории на шее, приблизиться и показаться на глаза; металл и пластик кравшейся по Бронным улицам машины надежно скрывали замороженный сгусток вины; четырехкратные повторы неумолимо убывали до одного, как бы последнего, и получалось уже что-то вроде нищей, жалкой уже-не-музыки, которая непобедимо вдавливала бессильно-голого, немого человека в его же собственную нутряную бедность.
«Любая, в сущности, могильная плита покажется вам «пухом» и триумфом нормативной композиции в сравнении с «Sarah was ninety years». Ничто не обеспечит вам «комфортного» пребывания в нежащем, расслабляющем «здесь и сейчас», никто не предложит начертания янтры для вызова к жизни потока звучания. Рука сама потянется перетащить «застрявший» бегунок «туда, где все начнется». Но ничего не начинается. В лесу раздается все тот же топор дровосека. Все та же безысходная и неизбывная трехсотпроцентно-концентрированная «бедность». Сухими деревянными акцентами артикулируется не столько невозможность создания музыкального произведения в классическом смысле, сколь глухота любого божества, в магическое поле которого мог бы попасть человек. И это не радость смерти, а безутешность женщины, узнавшей, что у нее никогда не будет ребенка».
Остановившись наконец у самой своей многоэтажки — одна из множества в Москве представительных черных машин, — он выследил, не убежал, не скрылся до совершения преступления, остался посмотреть на очерк Нининой фигуры, сандалии, щиколотки, колени, клетчатое платье с высокой талией… почуять всю ее как бьющееся птичье крыло, неожиданно сильное, еще и потому, что страшно сжать сильнее, навредить… ежиный пятачок на кончике тонкого носа, высокомерно-близорукие глаза, которые не дарят никому из дышащих живых существ задержки образа в зрачках; подглазья, веки припухли, лицо осунулось, поблекло, потемнело. Он ждал оцепенения, ушибленности, горечи, но было в ней сейчас не только это: в лице — за деловитой миной сговора с таксистом — творилось что-то непонятное, нежданное, необъяснимое — такая осторожность, бережность, такая понимающая нежность, которые доступны только человеку, который не один, который отвечает за кого-то, еще более слабого, чем сам он, беззащитный и потерянный.
Он ничего не понимал, не то тут что-то сделалось со временем — что это за такое Future in the Past? Вот это Нинино лицо с тревожно сведенными бровями, с решительно поджатыми губами — лицо пионерки, отличницы, что едет сразиться за честь родной школы, — Камлаева вернуло, опрокинуло в давно минувшее, отчалившее прошлое, в котором они вместе, еще не зная ни о чем, не зная, что их ждет, готовились к ребенку… когда она уже не расставалась с этим хитрым тестером, как диабетик с инсулиновыми шприцами, как гипертоники с прибором для измерения давления, когда она уже с какой-то неживой яростью тянула его в койку, как на работу, как в забой, по боевой тревоге будто, поскольку нужно было сделать все «сейчас», во время действия введенных стимуляторов, не раньше и не позже… когда ее черты вдруг искажались неотступным требованием, уже и неясно к кому обращенным — к нему, Камлаеву, который безотказно делал свое дело, к природе, к собственному телу, которое упрямо не хотело стать вместилищем для новой жизни.
Но это же кончилось, было и кончилось — это тогда, в невозвратимом, сгинувшем вчера она непримиримо враждовала с собственным нутром, а что сейчас, сейчас? Такое чувство: продолжала ту же самую работу и в то же время будто у нее уже сбылось — мгновение-другое он даже не сопротивлялся помешательству, такая стойкая, живая, неослабная тревога была в родных чертах — сосредоточенная там, внизу, под сердцем, в самой сути. Хрен с ним, Камлаевым, отброшен за ненадобностью, да, — уже не жена ему, Нина в себе растила «это», берегла, уже себя на пробу «этому» передавала.
Потом включил мозги: ну, значит, все-таки Ивантеевка, детдом, решилась, долго примерялась, и вот созрело, прорвалось, уже необходимость подступила — чтобы не быть одной, чтобы заполнить пустоту… его, Камлаева, теперь можно не спрашивать: кого он хочет и кого не хочет, свою кровь — не свою.
Другого объяснения он не находил — и это-то ему казалось недостаточным: ну, в самом деле ну не так же сразу — сперва погоревать, немного подождать, пока затянется то, что осталось от него, Камлаева, — после семи лет жизни как-никак, — а после уже брать казенное дите на прокормление материнской любовью. Но что бы ни было — эхо отрывистых ударов уже не исчезало без следа, не пропадало в стылой пустоте, как будто что-то обещало… нет, не ему, Камлаеву, но в самой мертвой стыни обессмысленного мира почти неуловимо, еле-еле затеплилось немое обещание, будто сама природа вспомнила о Промысле, о самом первом в списке снизошедших дозволений — давать прирост живого, сеять семя, плодоносить, производить потомство по роду своему.
Жена уже скользнула, скрылась в поданном такси, водила вырулил и вдарил по газам, оставив Эдисона наедине с неумолкавшим деревянным метрономом; прошли своим порядком, убыв до одного, повторы деревянных блоков, и в распахнувшейся, как в первый и последний раз, для слуха тишине с усилием разомкнул певец запекшиеся губы, выталкивая мягкотерпеливое моление о даровании живой воды, о дозволении на материнскую работу. В даль себя выдыхая, к горизонту, к зениту. Руководясь числом, делением четверки на единицу и Святую Троицу, чтобы не потеряться в бескоординатной пустоте, не нарушая изначальной формулы и набирая высоту повторами одних и тех же четырех простых и строгих гамм, настойчивых без яростного требования справедливости, смиренных безо лживо-благостной покорности.
Мерцание одинокого сопрано не крепло и не убывало, способное, казалось, вечно оставаться на грани тишины и пения, и тишина в просветах меж ударами теперь была как ждущая дождя сухая ноздреватая земля, которая хотела — только б дали напитаться — неутомимо и привычно отдавать корням питающую ласку.
Затягиваясь новой, преображенной тишиной и не пугаясь, когда женский голос замолкал надолго, Камлаев никого не торопил, довольствовался скудостью первичных интервалов и медленным, по четырем ступеням гаммы, восхождением, в одно и то же время мучительно-тяжелым, с преодолением кислородного напора далекого высокогорья, и безусильно-невесомым, как воспарение на чужом крыле. Ломающая трудность восхождения плющила нутро, равнялась степени твоей, теперь открывшейся, нечистоты, но вдруг душа свободно отлетала с губ, свободно длилась вослед тому, о чем просила.