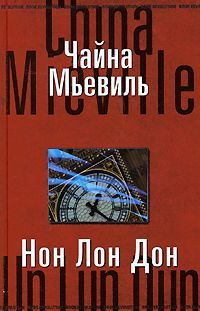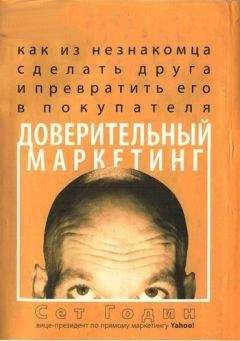Затягиваясь новой, преображенной тишиной и не пугаясь, когда женский голос замолкал надолго, Камлаев никого не торопил, довольствовался скудостью первичных интервалов и медленным, по четырем ступеням гаммы, восхождением, в одно и то же время мучительно-тяжелым, с преодолением кислородного напора далекого высокогорья, и безусильно-невесомым, как воспарение на чужом крыле. Ломающая трудность восхождения плющила нутро, равнялась степени твоей, теперь открывшейся, нечистоты, но вдруг душа свободно отлетала с губ, свободно длилась вослед тому, о чем просила.
Уже смеркалось, машины, текшие по светлому, как днем, проспекту, рычали, бухали басами, но он, Камлаев, двигался будто по узкому каналу, в своем отдельном времени — на одинокий строгий голос женского упрямо-терпеливого, отважного, не обладавшего уже будто свободой воли человека, до той поры, пока не растворился совершенно в чужом, за неимением своего, доверии Промыслу, пока его не вознесло над городом, над черной рекой, над высотками — туда, где женский голос был упрочен не то чтоб прорвой согласных голосов, твердящих те же гаммы, но будто мощно-величавым и не имеющим названия и подобия дыханием, которое для человека было тем же самым, что и дыхание матери для плода, спящего в утробе.
Когда Сарре было девяносто лет
Она себе не запрещала, не гнала вот это чувство совершенного освобождения, опустошенности, похожей на свободу, и даже злобно растравляла его в себе: ну вот и хорошо, что ничего не жалко и ни за что не больно, ну вот и хорошо, что можно теперь не просыпаться среди ночи, как будто кто-то растолкал тебя, схватил за шиворот и выволок на беспощадный свет: смотрите, вот она, пустая, — позор и наказание мужа своего.
Теперь никому ничего не должна, теперь никто не требует упорно, неотступно: думай, ищи, что можно еще сделать, какие есть еще возможности, врачи… что можно сделать, чтобы ваше с ним объятие не распалось, чтоб в вашем цельном организме, помимо общих сердца, легких, возникла новая двухклеточная жизнь — вещественность и сущность, доказательство любви, дающее неистребимый смысл и без которого все расползается, трещит по швам, кончается… у миллионов — нет, а вот у вас кончается. Вот в этом все и дело: как надо, они не могли (она не могла), а как могли, так им не надо было (ему, Камлаеву, не надо); все остальное — умножение непонимания, рост тяги к молодым девчонкам с глазами изумленного ребенка и маткой, яичниками, женскими, работающими, как швейцарские часы, — было лишь делом времени, и время настало. А впрочем, он стал ей чужим не из-за этого: если б ушел к здоровой, плодной, она бы приняла, перетерпела, отпустила, но выходило, что ему вообще все стало фиолетово — любая целиком, всерьез, переходящая в единую живую непрерывность близость, плод от кого бы то ни было; он этого уже не мог, как обессилевший паскудный старичок, — душой не мог, а ведь она так верила в его, камлаевскую, душу.
Сперва контакта не было даже с самой собой, с собственным телом. Или, наверное, так: одним лишь телом она и была первые дни — так, видимо, растение или камень не могут возразить против своей природы, вполне довольствуясь отпущенной ничтожной, минусовой степенью самосознания, бесконечно далекого от мышления приматов. Вот так и жить, пойти возвратной дорогой к тихой жизни растения; пять дней провалялась в постели, забившись головой в угол между кроватной спинкой и холодной стеной, но вдруг очнулась, спохватилась подневольно: жизнелюбие тела сильнее жизнелюбия ума… тугое, жадное, безмозглое, плюет каждой своей каплей на «не хочу», «не буду», «некуда жить» души, на «не пригодна ни на что» рассудка. «Корми меня», «нежь меня» — пусть от распада тебя удерживает только энергия слепого вожделения, но голос этот властен, из этой вот воды на 90 % ты и состоишь.
Неделя, другая… — она отважилась взглянуть на саму себя, встать перед зеркалом, и маятник неуправляемо качнулся к самодовольству, самолюбованию. Ничто никуда не девалось. А что? Стать ненадолго дура дурой. Воспрянуть. Лечить себя едва ли не в строгом соответствии с рецептами из позитивных руководств для одноклеточных: «развеяться», «устроить терапию шопингом», — сейчас ее вывернет, — «новые туфли — новая жизнь». Что там еще? «Флирт»? Ой-ёё, держите меня за ноги, — мужчины пялятся и содрогаются, украдкой обреченно взглядывают, осознавая неспособность дотянуться, и исчезают, прекращают быть, когда застанешь их с поличным; запястья, плечи, ляжки, щиколотки, все вместе — глаз не оторвать… ну-ка где тут у нас крупная рыба? Подвиньтесь, убогие, — вас уже нет, с такими мордами и вкусами с протянутой рукой на Ленинградке стоять надо, деточки, а не охотиться на мужа в «Ритце Карлтоне».
Кивнула официанту милостиво. Пусть принесут сашими с козьим сыром, колбаску из морского гребешка или кальмаровые кольца с красной икрой, или лосося гриль с гуакомоле, или, быть может… да хоть пармской ветчины с мелоном… не все ли ей равно, что впихивать в себя, в каком порядке и в каких соединениях?.. пусть принесут ей водки с лаймом и пусть официант не смотрит такими странными глазами на нее. А вот и рыба приплыла… ну то есть как — рыбешка… это смотря, в какой системе мер оценивать, по «форбсовской» шкале или по блядской… невозмутимо-властный, свежезагорелый, с брюс-уиллисовской лысиной, с рельефной мужественной мордой — такой немного мальчиковой, — с татарским луком чувственно изогнутой губы, как бы всегда смеющийся, даже если предельно серьезен, с нахальными глазами, с выражением нескромного вопроса… тут есть еще одно блевотное — «типаж»… как ты без этого всего жила? Как этим могут жить другие, «типажами»?.. сгодится на «клин клином», сказала себе с хохотом.
Сейчас займет соседний столик, усядется к ней боком, давно уверовав в неотразимость своего прищура, следя за нею неотрывно боковым, потом — ла-ла, бла-бла, простите, я понимаю, что еда — процесс интимный, не хочется мешать, вы, кстати, замечали, что жующий человек всегда немножечко смешон?.. кстати, в постели человек еще смешнее… а вы не боитесь казаться смешной? — он у Камлаева уроки, что ли, брал, способный троечник?
«Давайте путешествовать по винным картам вместе» — ой-ёё, лишь бы не прыснуть ей, куском не подавиться, не разразиться злым и жестким смехом — удержать окаменелую улыбку… как это все дешево… она затянулась — такая мерзость закружила, такая это невообразимая эссенция была из тлеющих тряпок и потных носков, а не «Вирджиния» с «Кавендишем»… что с ней такое? Что у нее с рецепторами вкуса, обоняния? Что это за отравленность такая, чем?.. Камлаев, отвяжись, изыди, дай мне пожить, почуять запахи и вкус.
«…Разрыв не происходит безболезненно, я понимаю, да, сначала кажется: такая рана никогда не зарубцуется…» — узнал, скотина! Неужто до такой все степени написано на морде у нее, что можно читать ее, Нину, как детскую книжку-раскраску? Доволен: попал, вскрыл гнойник. Блудливо улыбается: затянул в свои сети очередную «ищущую утешения». Хотела совсем дурочкой, — ну что же, получай. Как он паскуден со своими прописями, с убогими тестами, при помощи которых надеется ее, вот Нину, препарировать. — «Но, как сказал Патрик Зюскинд, время сметает все…» — ой, мама родная, какой же образцово-правильный, беспримесный мудак — таких необходимо расстреливать на месте во имя человеколюбия и жизни новых поколений на Земле — ничего своего, все из общей кормушки.
Вдруг передернуло: насколько же его словами она сейчас, камлаевскими, говорила, насколько же его глазами, Эдисона, смотрела вот на «этого». Камлаев Ниной смеялся, Камлаев Ниной выносил свои приговоры. Невозможно сделать и шага, чтоб в него не уткнуться, ох, как же он назойливо всепроникающ, вот нет его, вот все равно что умер — больше не хочу; застигла вдруг себя на том, поймала, уличила, что вот она живет и будто копит про запас все лица, все слова, как будто собираясь рассказать ему, Камлаеву, об этих лицах завтра и — вместе — хохотать над всем, что не они, что не заключено надежно в их общую раковину.
Порой начинает ныть, порой кончается как будто действие немящей заморозки, и продолжаешь жить тем общим вашим счастьем, той общей вашей правдой, на которую уже не опереться, как на фантом утраченной конечности, и как в кошмарном детском сне пытаешься вцепиться в поручень — вскочить на подножку, спастись от преследователей, — а нечем ухватиться, нечем, и сон все продолжается, оборванное чувство растет в пустоту. Наверное, после стольких лет тяжелой формы камлаево-ависимости само ее нутро бессмысленно теперь сопротивлялось бесповоротно-яростной попытке купить себе новые туфли и начать себе новую жизнь.
Она немного потерпела с прямой спиной, окаменелой улыбкой и с нескрываемой учтивой гадливостью сослалась на «прости, пора с тобой кончать»; едва собой командуя, пространством, пустившимся в мерный вращательный танец, ввалилась в туалет, кусая губы, втыкая ноготь — так, как в детстве учила мама, — меж большим и указательным, ментоловый, эфирный холод чуя, стянувший череп… схватилась за сияющий смеситель, чтобы устоять, и в нежно-жильчатую мраморную раковину ее стошнило всем сегодняшним: лососем гриль, морскими гребешками, французской булкой, водкой с лаймом, Аркадием с подобранным с помойки сборником великих афоризмов… да, видно, ей пока не стоит начинать… курить.