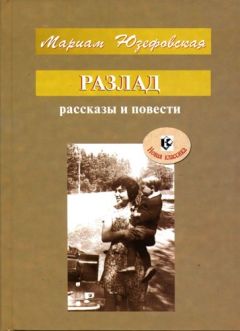Как-то я осмелилась, спросила: «Правда, что вы ворожея?»
– Что ты! Что ты! Бог с тобой. Какая ворожея, – испугалась она. – Просто травы знаю. Ты не слухай, что люди болбочуть.
Я-то, конечно, в это не верила и ребят при случае стыдила: «Эх вы! Темнота! Пионеры, называется. Во всякую чертовщину верите». Шурка все больше отмалчивался, только однажды сквозь зубы кинул: «Ишь ты! Учена, горожаха. У вас там, цай, на каждом шагу врач. А у нас до поселка верст двадцать». Я смолчала, а что скажешь? Деревня и правда была – как отрезанный ломоть – вокруг леса, болота.
Верить не верила, а любопытно было, оттого и побежала следом. Прибегаю, гляжу, а тетка Алина уже возле Майки крутится. Рядом Лизавета керосиновую лампу держит. Хоть и белые ночи, а в хлеву темно. Майка стоит понурая такая, с морды тягучая слюна капает, и дышит часто-часто.
– Ну-ка, посвети мне, – кинула Лизавете через плечо тетка Алина, а сама Майку оглаживает. Приговаривает: – Ну, дороженькая моя! Ну, коровка! – И все норовит ей зубы разнять. Майка головой мотает, не дается. – Да куды светишь? Зусим здурела! – шепотом в сердцах ругает она Лизавету. Наконец заглянула и ахнула: – Ой, божечка милый. Увесь язык в больках. Ой, бедолага! – Нагнулась. Пощупала вымя. – И здесь пузыри.
Тетка Лизавета как услышала, так и заголосила: «Ой, бедная я, бедная! За что ж это все на меня валится? Чем буду ребятишек кормить?»
Обняла корову за шею и заплакала горькими слезами. Тут и Митька тоже в рев. Чувствую, и у меня комок в горле.
– Чего зря ревешь? – вздохнула тетка Алина. – Можа, еще и оправится. Давайте воду грейте. Таганок сюды несить. Каменьчик чистый поищите. А я зараз, – и бегом домой.
Я в темном уголке спряталась. «Только б не выгнали», – думаю. Не успела Танька управиться, смотрю – бежит тетка Алина. В чистом платье, голову белым платочком повязала, в руке туесок, будто за ягодами собралась. Глянула исподлобья: «Тока щоб тихо мне було». Все и так стоят, не шелохнувшись. Слышно лишь, как Майка тяжело дышит. В хлеву темно, лишь угли в таганке тлеют.
Вытащила тетка Алина горшок из туеска, три раза ниткой вокруг обвила. После слышу: «Дзинь». А это она серебряное колечко с руки сняла и в горшок бросила, травки какой-то туда кинула и кипятку налила. «Подай каменьчик», – через плечо. Танька подала. Она сверху камень положила и давай вокруг Майки с горшком ходить. Ходит и приговаривает: «Как годюка нита не разберет, так чтоб и ведьма мою коровку не угрызнула». Семь раз обошла. У Майки шкура складками стала собираться, будто в ознобе, видно – от страха. Да и мне не по себе, мурашки по спине пошли. А тетка Алина скинула с головы платочек, окунула в горшок и начала Майку обтирать: сперва язык, потом вымя, а после – спину и ноги. Обтирает и бормочет: «Чтоб гладкая була, как яечко. Чтоб чистая, как гэта хустечка». После взяла яйцо, положила у порога, поверх соломы натрусила. «Неси огня», – Таньке. Та уголек подала. Солома задымила, пламя стало пробиваться огненными языками. Накинула тетка Алина Майке веревку на рога и давай через порог тащить. А Майка мычит, упирается. «Штурхайте ея! Штурхайте!» – закричала тетка Алина. Уперлись Лизавета и Танька в коровий зад, что силы толкают. У Лизаветы даже платок с головы упал, тощая косица разметалась. Из косого выреза рубахи выскользнул медный крестик на шнурке. «Ой, болечко коровке, болечко! Ой, мамка, не надо. Пожалейте Майку!» – закричал вдруг Митька, кинулся прямо под копыта. И оступилась Майка. От страха кинулась в сторону. Ступила прямо в горящую солому, брызнул желток, зашипел огонь. И заметалась Лизавета: «Ой, не жилец на свете наша Майка! Не жилец! Чует мое сердце. Цто же я теперь делать буду? Как зиму перебедуем?»
Гляжу, и тетка Алина в лице переменилась: «Дурная примета. Лихо будеть!» Потом вдруг на Лизавету закричала: «Чего ревешь? Вон малый заговорив. Бога должна благодарить. Совсем немко был. А что яечко раздавила, так, можа, обойдется. Это ж со страху. Митька спужав».
– А, – вяло махнула рукой Лизавета. – Немко – так немко. А есть, цай, все одно просить. А что немко, дак, можа, к лучшему. Лишнего говорить не будя. Как папка его. И ведь кака я дура уродилась, – жаловалась она, а слезы текли из глаз, не переставая. – Снила намедни сон плохой. Черного коня. Знаю, что не к добру. Нет, чтоб умом пораскинуть. Про Майку подумать. Про ноги свои стала мерекать. Колоды окаянные, – в сердцах она стегнула себя по ногам. – Лучше б совсем усохли.
– Не горюй, Лизаха, – стала уговаривать ее тетка Алина. А сама вся осунулась. Бледная, еле на ногах стоит, как после тяжкой работы. – Не горюй. Может, мужик твой вернется. И Майка поправится. Обтирай ея этим настоем, как я, три раза на дню. А завтра в поселок за ветеринаром Шурку пошлю. Все одно – в стадо гонять нельзя. Не дай боже – что заразное.
Ветеринар приехал через день. Хлипкий такой мужичишко, бороденка редкая, сквозная. Посмотрел Майку, поцокал языком огорченно: «Плохо дело». Дал какое-то лекарство, велел мазать вымя и между копытами. Наскоро посмотрел всех коров в деревне и быстрей домой, путь-то не ближний. На прощанье сказал Лизавете:
– В случае чего – ты гляди. Не тяни. А то ни мяса, ни буренки не будет.
Лизавета побледнела: «А можа – сдать ее, Петрович? Подсоби за ради бога. У меня ж по мясопоставке долг еще с того года. Чем таперя платить буду, ума не приложу».
– Ты что это? Меня под суд загнать хочешь?
– Мы, цай, едим эту убоину. И ничего, – пробовала уговорить его Лизавета.
– То вы, а то государству сдавать, – отрезал ветеринар. Тронул коня, отъехал немного. Остановился, крикнул Лизавете: – В слуцае цего – не тяни! И гляди мне, чтоб не солила впрок. Только вари. Я, цай, вас знаю. После – всех перекачает.
Лизавета качнула головой – ладно, мол. Пошла, еле переставляя свои ноги-колоды. Она уже не плакала, не причитала, как в первые дни. Только вся будто почернела и ссохлась.
– Боюсь, каб Лизавета сама рядом с той коровой не лягла, – сказала тетка Алина. – На-ка, занеси ей молока. Пусть хоть малой попьет вволю. Верно кажуть – нихто того не ведаеть, как бедняк обедаеть, – вздохнула она.
Мне и самой Лизавету было жалко до слез, а еще больше Таньку. Молчаливая стала такая, все думает о чем-то, а то вдруг усмехнется горько и головой покачает: «Не. Не скажи. Нет счастья у нас. Видать, и я буду такая же неудаха».
«Лучше бы поплакала, – подумала я. – Легче бы стало». По себе знала. Когда-то соседская старушка уговаривала: «Поплачь, донька. Поплачь. И душе легче станет. Не то надорвешься. Мамульку ведь все равно не воротишь». А слез не было.
В ту пору затеяла я игру в тимуровцев. Подбила ребят помогать семьям фронтовиков. Выбрали меня командиром – Тимур в юбке. Конечно, вознеслась, воспарила: «А давайте на работу с горном ходить. Строем. Все галстуки наденем. Пусть народ видит – тимуровцы». Падка была на торжества, книжные радости.
– Ну цего зря шум поднимать? Цего людей будоражить? – осаживал меня Шурка.
И хоть строем не ходили, и горна не было, но работали на совесть, от души: и огороды пололи, и воду носили, и траву для коров подкашивали. Безотказные были. Иной раз сами напрашивались: «Давайте сено на лужке сгребем. Может, поленницу подправить?»
Одно меня смущало – работать-то мы работали, но не бесплатно. Вроде бы и денег не брали, но кому кусок сыра хозяйка даст, кому пару яиц, а этому молоко налили. Что с хозяевами за стол садились, так об этом и говорить нечего – все, как один. Раз не выдержала, попрекнула этим.
– Да ты цто? – удивились ребята. Цай, от чистого сердца! Цего зря людей забижать?
И точно, на себе испытала. Другая хозяйка так разобидится, что и не знаешь, как быть.
Как-то сдружились мы, и жить интересно стало. Иной раз соберемся вместе, пойдем деревенской улицей. Доски деревянного тротуара так и гнутся, пружинят под босыми ногами. Сразу видно – сила идет. Даже галстуки стали надевать, уговорила все-таки.
И Танька будто чуть ожила, но только о доме вспомнит, сразу поскучнеет: «У Майки-то нашей одни мослы торчат. Худющая стала, страх. Только воду пьет и пьет. И матерь рядом с ней убивается. Намедни просит: «Сходи в поселок. К батюшке. Можа, он что и посоветует. Святой воды даст. Или что. Я сама б пошла. Да не дойду».
– Тань! Неужели пойдешь? – вскинулась я.
– Уж и не знаю, чего делать. Больно матерь жалко. Ладно бы дралась или ругалась. А то просить. Совсем я с ней извелась.
– И не думай, Танька. Стыда не оберешься. И так просто с рук не сойдет. Пионерка же.
А на следующий день Танька на улице не появилась. «Все-таки пошла. Не послушалась», – подумала я и не ошиблась. Митька подтвердил:
– Татька к батюшке пошла. Мамка велела.
– Ну, погоди! – взъярилось во мне мое командирство.
Вспомнились мои городские подруги, да если кому рассказать – обхохочутся. Не поверят, чтоб пионерка – да в церковь! И из-за чего? Из-за коровы. Конечно, нечего говорить, тетку Лизавету жалко. Да ведь что получается? Раз пожалеешь. Другой. А там, глядишь, и все убеждения под корень из-за этой жалости. Нет уж, так нельзя.