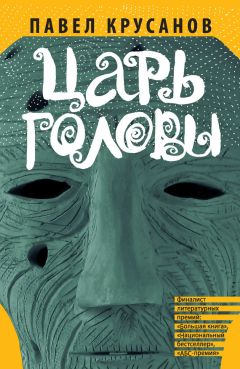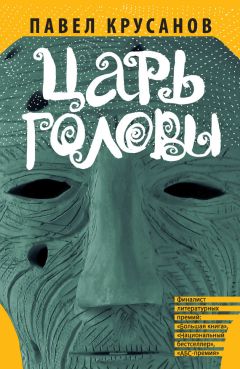Наполнив два бокала янтарным пойлом, один Услистый подал Никодимову, другой взял сам. Чокнулись. Ром был действительно хорош. Сделав глоток, Никодимов поднял бокал и посмотрел сквозь него на свет – ром маслянисто играл и словно излучал какое-то самостоятельное благородное сияние.
– Мешок света… – Миг назад этих слов не было в голове Никодимова, и вдруг откуда-то взялись, будто кто-то другой из него сказал это, будто сидящий внутри игрок выбросил на доску кости и выпала именно такая комбинация.
Услистый посмотрел на собеседника в упор, засаживая взгляд, словно лопату – на глубину штыка.
– Знаешь, значит.
– Знаю.
Ну вот, опять… Что Никодимов знал? Про что? Но сказать «знаю» было приятно. В конце концов, что-то же было ему известно – например, это: йоги едят только правой рукой, потому что левая рука – нечистая; зелёные желатиновые кубики крысиного яда пахнут карамелью; если лук режется без слезы – это к грозе. Ещё он умел соловьём свистеть на бересте, лаял во сне, журналистов и врачей едва ли не поголовно считал шарлатанами, производил штучные торты и не любил сладкое – чем не знание?
– А видел его? – Услистый, не сводя с Никодимова взгляд, наклонил голову, как пёс.
– Что? – не понял Никодимов и тут же догадался, что именно.
– Впрочем, где ты его видел…
Услистый запустил руку в карман брюк – другой, не тот, где был бумажник с прищепкой, – и извлёк из него мягкий кожаный кисет на витом шнурке. Небольшой, размером с пол-очёчника.
– Дай руку, – велел он.
Никодимов покорно протянул ладонь. Распустив шнурок, Услистый выронил из кисета на подставленную ладонь Никодимова мандарин. То есть это был не мандарин, а светящийся оранжевый шарик, увесистый, словно булыжник, желанно притягивающий взгляд. Казалось, он должен обжигать, но он не был ни горяч, ни холоден – в нём словно вовсе не было температуры. И свет его, заметный даже сейчас, в солнечный день, хоть и слепил, но как-то мягко, бархатисто, лунно. Никодимов сжал ладонь и почувствовал, что шарик беззвучно проминается под его пальцами, как силикон, как плотно набитый мешочек с мукой, но стоит разжать пальцы – вновь возвращается к шарообразию. Не понимая зачем, Никодимов в руках раскатал его в яйцо, отпустил – и он вновь округлился. Не просто свет, а что-то несусветное– пластичная материя света, его вещество.
– Не рвётся и не режется, – сказал Услистый. – В огне не горит и в воде не мокнет. Я пробовал.
– Скажи ещё, молотком плющил.
– Не плющил. Зато в колбасу вытягивал и завязывал узлом – развязывается, когда отпустишь, и опять в шар надувается. А ночью светит так – хоть газету читай. Только в моих руках он – зелёный.
Быстро сняв с ладони Никодимова шарик, Услистый показал: тот уже и впрямь излучал зеленовато-опаловый свет. Никодимову хотелось ещё подержать диковину в руках, но Услистый спрятал чудесную вещицу в кисет, затянул шнурок и сунул кисет в карман. Опять, как некогда с кубачинским кинжалом и самолётом, Услистый сделал жест, на который Никодимову нечем было ответить. Он буднично вложил ему в руки то, что считалось легендарной выдумкой и не имело даже описаний. Прозаичность события сбивала с толку.
– Где ты его взял?
– Да есть один крендель… Из ваших, питерских.
– А у него откуда?
– Ну, это дело не моё. Может, наследство. А может, старушку зарубил и забрал.
– И что… – Никодимов не успел договорить.
– О-о-о – это такая штука… – Услистый закатил глаза. – Способствует расцвету талантов и усугублению грехов. Он, крендель этот, сладострастник был, а с Мешком света совсем дошёл до ручки: не то что козу – замочную скважину готов был долбить. Вся сила в яйца ушла.
– Он сам отдал? – Никодимова пронзила молниеносная догадка: «Кремовый художник – ну конечно! Вот бестия!»
– Почему отдал? – удивился Услистый. – Продал. Понял, что впору дух перевести, пока весь лужей на простыню не вытек. Пожался и продал. Я, знаешь ли, много денег заработал.
– Молодец… – задумчиво сказал Никодимов, примеривая к себе: имей такую штуку он, продал бы?
– Не молодец я, – Услистый мрачно отхлебнул из бокала «Матусалем», – а большой руки мерзавец. Я зло оправдываю – за это хорошие бабки дают. И никакого внутреннего разлада во мне нет. Ни малейшего. Вот такая я сволочь.
На нижнюю палубу по трапу спустилась Вика и прильнула к мужу.
– Спрятались? Давайте-ка наверх, к гостям. – При взгляде на Никодимова по ясному челу её скользнула тень. – Андрюша, а ты почему жену не взял?
Услистый усмехнулся.Никодимов разъяснил.
Наверху Услистый познакомил Никодимова с важным московским господином, имя которого Никодимов тут же забыл, потом представил каким-то дамам, затем, показав на присевшую особняком парочку – Пустового с цыпой, – шепнул на ухо: «Могучий художник будет, помяни моё слово», – и тихо, как пар, растворился. Никодимов остался в компании с усатым, наголо бритым столичным графиком и завсегдатаем разных телешоу Пульджи, беседующим с седовласым, преклонных лет мужчиной, помятое лицо которого выглядело неуловимо знакомым. Потягивая красное вино, они пытались выяснить в вежливом споре, кто главнее – Маркс или Аполлон.
– Русская революция, – вещал Пульджи, – была своего рода мистерией. Земным аналогом Страшного суда. Верблюду легче пройти через игольное ушко, нежели богатому, стяжающему благ земных, – в Царствие Небесное. И не прошли в это русское большевистское царствие, поправшее золотого тельца, ни помещики, ни фабриканты, ни кулаки – одна голь проскочила. Так скопленное добро стало для стяжателей злом. В этой мистерии есть большая правда и великая красота, которая откроется нам со временем.
– Какая же тут красота? – возражал помятый. – Одна политэкономия с кровью, как бифштекс вполсыра.
– Ещё не вышел срок, – наставлял Пульджи. – Мы ещё не поняли, что потеряли, суть историческую за вихор не ухватили. Минует время, и мы там, в большевистском царствии, золотой век узрим. Так бывает: мрачно небо, тяжело, в клубах свинцовых, а прольётся дождём, и, глядишь, заголубело.
Участвовать в беседе Никодимов не хотел – внутри него толкалось свежее переживание, которое он не осмыслил и которому ещё не нашёл в себе места. Что с этим нужно было делать: понимать, терпеть, переживать? Определённо, оно, это неоформленное впечатление, должно было закрыть часть бездны, как ряска, кувшинки и камыш затягивают пустующую гладь старицы. Если только не дать ему провалиться… Нет, он бы Мешок света не продал. Ни за что не продал. Такую вещь рублём не ухватить…
По палубе сновали официанты, разнося напитки и блюда с канапе, фруктами и салатами в тарталетках. С бокалом рома Никодимов ходил между гостей, разбившихся на кучки, и пытался как-то определить для себя тот тревожный и вместе с тем приятный отклик, который он ощутил, пока держал в руках сияющий комочек. Отклик не определялся, просто был смутно беспокойным, бодрящим и одновременно беспредметно радостным. Он, как тихая любовь в сердце, приятно ворочался внутри, выдавая своё присутствие, – и только.
Солнце слепило. Оно было повсюду – в небе, в бликах подвижной воды, в луковках Успенской церкви, в хромированных пряжках дамских сумочек. Мимо проплывали царственные невские берега. Позади уже остались стоящий на приколе, пузатый, точно самовар, ледокол «Красин», скорбный дом на Пряжке, чёрные краны Адмиралтейских верфей… Впереди под сияющими вечерними небесами распахивалась прозрачная ширь залива.
На корме, облокотившись на поручни, Чугунов с Калюкиным что-то заливали двум весёлым дамам. В бокалах приятелей плескался коньяк, дамы потягивали шампанское. Никодимов пристроился рядом.
– Так вот они какие – дети света! – хохотала одна из дам в ответ на реплику Чугунова, которую Никодимов не слышал (при словах «дети света» его прошила электрическая искра). – И что же там, за гранью?
– А там – лафа, – убеждённо сказал Чугунов. – Ни комаров, ни мудаков, ни бабьих воплей. Даже водка не нужна. Сядем жопой в мягкое облако, Калюкин забренчит на арфе, и полетим…
– Пускающий ветры во сне подобен дремлющему вулкану, – кося на Чугунова глаз, многозначительно изрёк Калюкин.
Буйный хмель уже звенел в их головах.
– А как отличить детей света от порождений тьмы? – поинтересовалась вторая дама.
– Очень просто. – Чугунов залпом осушил бокал. – К детям света не прилипают деньги.И он вывернул свободной рукой пустой карман брюк, тут же обвисший сухой старушечьей титькой.
Когда прибыли в Петергоф, солнце ещё высоко висело над заливом. Гости были веселы и, вглядываясь в берег, предвкушали.
Корабль причалил. Пассажиры сошли.