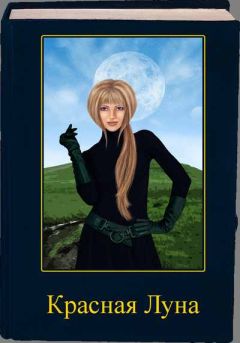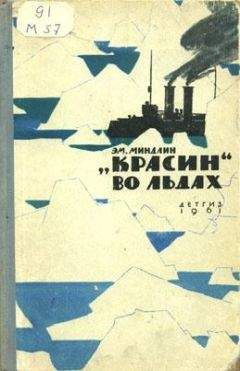Мне стало грустно. Я посмотрел вверх и увидел бесконечное множество звёзд на темнеющем небе. На западе облака, подсвеченные снизу заходившим за горизонт солнцем, окрасились в молочно-розовый цвет. На ум сами собой пришли строфы Анненского. Они точно передавали моё настроение:
«Пережиты ли тяжкие проводы,
Иль в глаза мне глядят неизбежные,
Как тогда вы мне кажетесь молоды,
Облака, мои лебеди нежные!
Те не снятся ушедшие грозы вам,
Всё бы в небе вам плавать и нежится,
Только под вечер в облаке розовом
Будто девичье сердце забрезжится…»
Я не пошел к Илоне.
Незачем мешать — пусть поговорит с Волчатниковым и, может, тому станет легче. Пойду к ней позже. Не пошел я на гулянку и к Гуторину. Из его комнаты слышался громкий шум, какой бывает во время таких сборищ. Пьяные разговоры, ненужные откровения, ни к чему не обязывающие заверения в дружбе — всё это было до боли знакомо и смертельно надоело. На следующее утро никто ничего не помнит, все клятвы по боку, каждый сам по себе.
Илона, как она и говорила у столовой, была одна в своей комнате в женском бараке. Я чувствовал, что она ждала меня. Причем, это не выражалось в каких-то особых приготовлениях, когда женщина накрывает стол, приводит себя в надлежащий, как ей кажется вид. Нет, всё было как обычно. Аккуратно убранная комната, на столе в банке букет полевых цветов. Однако у неё неуловимо изменилось выражение лица, появился особый блеск в глазах, словно зажглись маленькие свечки. Возникло особое напряжение в воздухе, то невидимое колебание материи, которое ясно дало мне почувствовать, что девушка волнуется.
— Я думала, что ты не придешь, — сказал она, внимательно глядя мне в глаза, — на крыльце днём ты был какой-то рассеянный. У тебя ведь есть девушка? Лида, кажется. Может, ты её любишь, а я навязываюсь? — она отвела глаза и посмотрела куда-то в окно, мимо цветов, стоящих на столе.
— Почему ты так думаешь? — удивился я: — Во-первых, я обещал, что приду, а обещания привык выполнять. Во-вторых, Лидка это так, от скуки, причем обоюдной.
— Я у тебя тоже от скуки? — спросила Илона, всё так же не глядя на меня.
— Что ты, конечно, нет! Но пойми, я ещё до конца не разобрался в себе, не понял, чего хочу. Ты мне нравишься, но я не знаю, любовь ли это?
— А мне кажется, что я в тебя влюблена, — Илона встала со своей кровати, где она сидела, и медленно, как ходят люди в глубокой задумчивости, пошла ко мне.
Она обошла стул, на котором я сидел и, наклонившись, прижалась своей головой к моей. Приятно пахнуло свежестью цветов, её прерывистое дыхание я почувствовал не своей щеке. Светлые волосы девушки, выбившиеся из-под голубой ленточки, которой была перевязана голова, щекотали мою шею.
— Иди ко мне, — прошептала она, — мне от тебя ничего не надо, просто обними, прикоснись ко мне.
Я почувствовал, как кровь учащенно застучала в висках. Мы поднялись и начали целоваться стоя, одновременно раздевая друг друга. Потом, после всего, я лежал расслабленный, чувствуя тепло её тела, плотно прижавшегося ко мне.
— Как тебе Волчатников? Я видел, ты вечером с ним разговаривала.
— Сергей Николаевич? Ничего… — она засмеялась — ты ревнуешь? Он приятный, хороший. Я чувствую хороших людей. Но мне нужен только ты один. Я хочу быть с тобою рядом, только с тобой, — она ласково провела рукой по моей груди.
Возвращаясь в свою комнату, я подумал о том, почему некоторые люди называли то, чем мы занимались с Илоной выражением «заниматься любовью». Из-за удобства? Не надо употреблять много лишних слов? Но ведь любовью нельзя заниматься, потому что — это чувство. Мы ведь не говорим: «Пойду заниматься грустью» или «Пойду заниматься радостью». Практически любое чувство может иметь свою форму физического выражения. Например, печаль может вызвать слезы, а радость — громкий смех. Любовь может иметь продолжение в сексе.
«Опять на философию потянуло, — подумал я, — если ты такой умный, то, как бы тогда сказал? Занимался сексом? Но «секс» — слово лишенное эмоциональной окраски. Им нельзя описать того события, той близости, которая возникает у мужчины и женщины. Если заменить какое-нибудь нецензурное ругательство этим словом, например, сказать «секс вашу мать», то это вообще никого не обидит. Нельзя обидеться на то, что не обидно. Да…секс-кекс. По-русски «половой акт» ещё хуже, чем секс. Слово «половой» сразу ассоциируется с полом, причем не с полом мужчины или женщины, а с полом в прямом смысле, как покрытии. «Акт» — вообще звучит ужасно, словно это террористический акт, а не любовные отношения. Да, задачка…»
У Гуторина ещё гуляли, причем остались, по всей видимости, самые стойкие. Я зашел к нему в комнату. Стоял густой туман из сигаретного дыма. За столом бессмысленно вытаращив глаза друг на друга, сидели Гуторин и Винник. На одной из кроватей, слегка похрапывая, спал Вова Приходько.
Оба прапорщика дошли до той стадии опьянения, как офицеры в повести Куприна «Поединок», когда забыли, для чего собрались и за кого пьют. Пили просто под лай собаки или под свет луны.
— О, замполит! — увидев меня, обрадовался старшина, — вот поспорили с Андрюшкой кто кого перепьет. Примешь на грудь? Ты же знаешь, если присутствует замполит, то это уже не пьянка, а культурное мероприятие.
— Всё мужики, давайте заканчивать, — не поддержал я их надежд, — завтра на полёты. До подъёма осталось два с половиной часа.
— А сейчас сколько? — спросил заплетающимся языком Гуторин.
— Два часа ночи.
— Ну, тогда по крайней, — встрял Винник и налил в кружки разбавленного спирта, — как говорят у нас на Дону: «Стременную».
Мы чокнулись без тоста, и выпили, почти не закусывая.
Несколько дней у нас с Волчатниковым не было возможности встретиться, да и мы сами не искали встреч, словно между нами возникло отчуждение по какой-то неизвестной мне причине.
В полку между тем ЧП продолжались. Кто-то вывел из строя ещё три двигателя. Особисты, которым уже надоело торчать на полевом аэродроме, были просто вне себя. Они, как говорится, рвали и метали. Как я слышал, оба капитана пару раз дежурили ночью возле самолетов в засаде с большой надеждой поймать злоумышленника. Но всё безрезультатно.
С Илоной мы встречались регулярно и я уже почти начал привыкать к ней, но глубокое чувство, появления которого я ждал от этих встреч, так и не возникло. Наши отношения не переросли в любовь, по крайней мере, с моей стороны. Так уж вышло и не знаю, чья здесь вина.
Волчатников первым подошел ко мне, пожал руку. Мы пошли рядом по одной из дорожек.
— У тебя с Илоной что-то серьезное или как? — напряженно спросил комэска.
— Сам толком не пойму, — ответил я и посмотрел на него, — а вы, почему об этом спрашиваете, Сергей Николаевич?
— Понимаешь, Витя, я, кажется, в неё влюбился, — он неловко помялся, с трудом подбирая слова, — хочется постоянно с ней разговаривать, смотреть на неё, быть вместе. Чёрт, ничего не могу с собой поделать!
«Да, — констатировал я, — прямо какой-то любовный треугольник, треугольник в котором можно запутаться, как в трёх соснах. Волчатников любит Илону, та любит меня, а я? Кого я люблю?»
— Сергей Николаевич, Илона говорит, что любит меня, но я…не знаю. Душа молчит, чувства, словно ампутировали. Мне с ней приятно, хорошо, но не более. Может я такой уродился, совершенно бездушный, безразличный ко всему?
— Если человек безразличен к окружающим, значит, он любит только самого себя. А ты в этом замечен не был. Нет, Виктор, всему своё время. Тебе пока не встретилась девушка, которая завладела бы твоими мыслями, занимая их полностью, без остатка. Но она появится рано или поздно, ты уж поверь мне.
В курилке были пустые скамейки, и мы сели на них, продолжая разговор. Я решил сменить тему.
— Вы ничего не знаете о том, как идут поиски раздолбаев портящих самолеты? Есть какие-нибудь результаты или пока всё без толку?
Волчатников криво усмехнулся.
— Вот именно, злоумышленников, как в рассказе Чехова. Потом выясниться, что кому-то понадобились лопатки от турбины двигателя или ещё что-то подобное, которое можно снять и приспособить в хозяйстве. Наши особисты ни к чёрту не годны! Брюхо отрастили, привыкли к тишине и покою, а тут надо побегать. Я, конечно, не специалист в розыскных делах, но мне кажется оперативники из них никудышние.
— Может, какого-то солдата-механика не пустили в отпуск, и он мстит? — предположил я с неожиданной для себя горячностью.
— Всё может быть. Тут надо со старшинами эскадрилий переговорить… А что? Я со своим, пожалуй, переговорю. Да и с другими тоже, — сказал Волчатников после паузы, — думаю, заместитель командира полка мне разрешит.