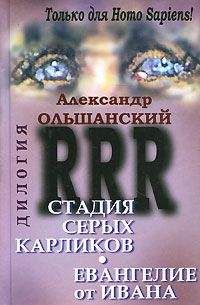— И у меня не будет, — грустно сказала Аня, — я только что открылась. Потом рассчитаетесь.
— Нет, — запротестовал Иван Петрович, предчувствуя загульную перспективу недельки на две, не меньше — так что, милая, бери, пока дают, а то ведь можешь и не получить. — Лучше вы потом сдачи мне, если что останется, дадите!
— Ну, копия Ивана Петровича! И интонация, и привычки — не отличить! — громко восхищалась буфетчица.
Иван сел за угловой столик рядом с входом и без передыху принял первый стакан. «Не самопал, нормальная водяра — сразу выдает рассвет, — отметил Иван Петрович, поскольку барашек на стальном обруче вокруг его головы стал как бы отвинчиваться и опилки в мозгах не так уж сильно кололись.
— Повторите, пожалуйста. Хорошая водка, — сказал буфетчице и поставил на стойку пустой стакан.
— Ваш покойный брат любил говорить: «Водка бывает только двух сортов — хорошая водка и очень хорошая», — засмеялась буфетчица.
— Это у вас хорошая или очень хорошая, а там… — Иван Петрович в неопределенном направлении махнул рукой. — Травят людей такой бормотухой…
Он поставил перед собой и третий стакан, который взял скорее по привычке или, может, от жадности к спиртному, которая у него иногда появлялась. То, что буфетчица не признала в нем Ивана Петровича Где-то, а посчитала братом усопшего поэта, встревожило, если не сказать сильнее. «Настоящая справка дана Ване-бульдозеристу…» — всплыли перед глазами слова из государственной бумаги, и громко рассмеялся, мотая головой и ритмично шлепая раскрытыми ладонями по столешнице. Перепуганная буфетчица, несмотря на свои габариты, ловко выскочила в зал, подбежала и пыталась дать ему минеральной воды.
— Не надо, не надо, — отказывался Иван Где-то. — Все нормально, — говорил он, вытирая слезы рукавом камуфляжной куртки, и продолжал хохотать.
— Как знаете, веселого мало, — обиделась Аня и ушла за стойку.
Последние слова еще больше рассмешили: это же нарочно не придумать, чтобы он, покойник, встал из гроба на защиту бобдзедуновской демократии, превратившись из поэта Ивана Где-то в легендарного Ваню-бульдозериста, активного защитника Белого дома! «Защищал» те самые рожи, которые ошиваются по президиумам, поскольку они при власти были и при ней останутся. Ну и «защищал» их не на смерть, а что называется вусмерть — но, поди ж ты, и приодели, и конверт сунули, и ксивой государственной снабдили…
— В гульбарий ударился? — упрекнул его двойник, присаживаясь рядом. — Безответственнейшая ты личность, Иван Сергеевич. Никакого чувства долга…
— Опять глюки? Ну и хрен с ними: я никому ничего не должен. Так что чувству долга неоткуда взяться, — говорил Иван Где-то. — И запомни: я был, есть и буду Иваном Петровичем Где-то. А тургеневское имя и отчество забери себе вместе с фамилией. Колоколов — так, что ли? Вот и пользуйся.
— Какой Иван Петрович? — хмыкнул двойник. — Ты — Ваня-бульдозерист. Вот кто-то ты на самом деле. В эти минуты Аэроплан Леонидович Около-Бричко занял и удерживает два крыла в двух разных зданиях ЦК партии, поэт Мельтешенко со товарищи в полсотне метров отсюда, словно Зимний дворец, берет особняк Союза писателей. На этой же улице идет штурм издательства «Советский писатель». И вот-вот начнется охота на ведьм. Ты хотя бы Крапулентина объявил ведьмаком, вышвырнул из кабинета, взял издательство в свои руки…
— Слушай, хмырь, ты за кого меня принимаешь? Спутал с каким-нибудь бригадендемократофюрером? Я ведь всего-то да еще в лучшем случае — Ваня-бульдозерист. Зло обло, огромно и лаяй — помнишь? Вот оно и лаяй, и кусай! Взглянул окрест — и душа моя уязвлена стала. Помнишь? Поэтому бери стаканяру и молча прими, угощаю. Молча угощаю…
Двойник внял совету и больше не возникал. Столик в углу был в тот день самым популярным — цэдээловская тусовка считала своим долгом выпить с «братом Ивана Где-то» и высказать восхищение талантом безвременно ушедшего поэта. В итоге несколько столиков были сдвинуты, поскольку Иван Петрович заказывал и заказывал выпивку и закуску.
За всю жизнь он не слышал столько хвалебных слов о своем творчестве, сколько было сказано в тот день и вечер в пестром зале. Он и не предполагал, что многие литераторы, с которыми он поддерживал шапочное знакомство, произнося тосты, станут читать наизусть его стихи. Более того, стихи начинали нравиться и ему самому.
И уж совсем невероятным было то, что его, оказалось, стали признавать всевозможные поэтические группы и направления — и панталонно-пантеонные манжетистки, и романтические гениталисты, ориентаци как традиционной, так и нетрадиционной. И поклонники лаокоонной промежности, и непримиримые их оппоненты из лагеря абортированного вдохновения, и рьяные опровергатели знаков препинания. И приверженцы антиямба, и почитатели нового поэтического глагола имени Муму, и эскаписты или оскописты — многого он вообще не расслышал во всеобщем гаме… Выразили свое восхищение то ли две, то ли сразу четыре бритые наголо девицы, с огромными искусственными ресницами и представившиеся как феминистки и лирические колготки, которые то ли растягиваются от Парижа до Находки, то ли оттягиваются на этом пространстве — он так и не понял, но догадался, что они отнюдь не синие чулки. Свое сочувствие подошла выразить даже международная литхабалка по прозвищу Манька Толстой-заде. Однако больше всех сразил глава невероятно популярной генерации, который сам себя называл исключительно по имени и отчеству или же, как минимум, триадно — Морсон-Андрон-Пегасогон. Литературная же братия его именовала безыскусно — Педя.
— Ваш брат был большущим поэтом, — забулькал солидно Морсон-Андрон и выдержал паузу, взывающую к ее автору великое уважение. — Очень жаль, что уже не с нами. Прежде всего нам, мандуальным контрацептивистам, к которым он так и не примкнул. Был чрезвычайно скромным, считал себя недостойным такой великой чести. А если бы примкнул, то стал бы моей правой, нет, правая у меня есть, левой, сердечной, рукой и великим поэтом. Ибо только мандуальный контрацептивизм дает полную свободу системе внутренней секреции и гигантское вдохновение. И полного отбора, выбора, выброса, выпука и откида. К примеру, прекрасный пол нашего направления предпочитает исключительно черные прокладки. Ибо они практичны и траурно элегантны. Жаль, — царственно возложил свою длань Педя на его плечо и величественно удалился.
Все это донельзя расшатало нервную систему «брата Ивана Где-то», привело к переизбытку чувств, от которых он почти весь вечер плакал — слезы шли безостановочно, как из чудотворного лика.
Перед самым закрытием буфета он все-таки прекратил обливаться слезами, отказался от нескольких стаканов и практически пришел в норму. Вне всякого сомнения, это был самый лучший его творческий вечер в писательском доме. Но в то же время все сильнее чувствовал, что поэт Иван Где-то и он, со справкой забелдомовца Вани-бульдозериста, — это не одно и то же. Было ощущение, что он присутствовал на чужом празднике, по сути, триумфе, где литературная братия говорила не кривя душой, и было обидно, что в той, первой жизни, не нашлось для него и сотой доли нынешнего признания.
— Да ты сам себя ревнуешь! — вновь объявился двойник, и у Ивана Петровича от обиды перехватило горло.
— А где ты был, когда я над митингом летал? Внизу стоял, да? — спросил вдруг Иван Петрович, но двойник по извечной отечественной привычке никакого ответа не дал.
Чтобы после государственного гимна в шесть утра сразу давали балет — такого Декрет Висусальевич Грыбовик отродясь не помнил. Собирался проехаться по полям, проверить, как идет в уезде уборка хлеба, и велел шоферу приехать пораньше. Тот явился, на кухне по радио как раз исполняли гимн. Супруга Кристина Элитовна в такую рань никогда не поднималась, поэтому Декрет Висусальевич пил чай в одиночестве — все шло как всегда своим чередом. И на тебе — «Лебединое озеро». Включил телевизор — на всех каналах шум да рябь. Попытался по радиоприемнику поймать Москву, но ни одна станция не вела передачи на русском языке. Декрет Висусальевич встревожился не на шутку. Надо было ждать до шести утра по московскому времени — ведь, идя навстречу пожеланиям прогрессивно ускоренным шарашенцам, местные власти во главе с самим Грыбовиком решили поместить свой славный город и уезд в другой часовой пояс. Так они оказались в процессе, который, как известно, пошел, на час раньше самой Москвы. И эта передовитость по отношению к столице повернулась вдруг неожиданно неприятной стороной.
Вообще-то большой специалист по балету дрых в спальне, однако будить супругу не решался. Еще не отошел от головомойки, которую устроили ему в губернии за проведение знаменитой балетно-бульдозерной композиции «Наша ода каждому огороду!» Поскольку Кристина Элитовна была художественным руководителем акции, то губернская интеллигенция тут же вспомнила, что ученый совет университета проводил выездное заседание в Шарашенске, на котором она и защитила докторскую диссертацию по лирическому придыханию.