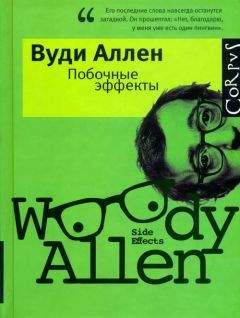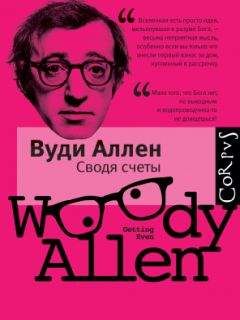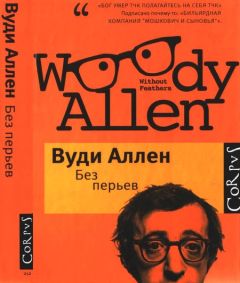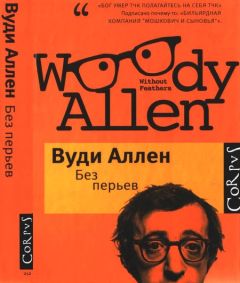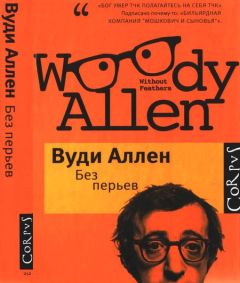ПЯТНАДЦАТОЕ ФЕВРАЛЯ.
Вольфсхайм разработал теорию и настаивает на ее проверке, однако я нахожу ее слишком примитивной. Он убежден, что человека, подавившегося едой, можно спасти — цитирую, — «дав ему глотнуть воды». Поначалу я думал, что он шутит, но страстность, которую он излучал, и дикий взгляд показывали: он всецело поглощен этой идеей. Ясное дело, обдумывая ее, он провел без сна не одну ночь, и в его лаборатории повсюду стояли налитые до разного уровня стаканы с водой. Когда я отозвался о его теории скептически, он обвинил меня в пораженчестве и задергался, как танцор диско. Он явно меня ненавидит.
ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ФЕВРАЛЯ.
Сегодня был выходной, и мы с Суламифью решили прокатиться за город. На свежем воздухе все, что связано с удушьем, показалось таким далеким! Суламифь рассказала мне, что была замужем за ученым, который проводил новаторские исследования радиоактивных изотопов; он бесследно растворился в воздухе посреди своего выступления перед сенатским комитетом. Мы с ней поделились личными предпочтениями и вкусами, и оказалось, что мы оба питаем слабость к одной и той же бактерии. Я спросил Суламифь, как бы она отнеслась к тому, чтобы я ее поцеловал. Она ответила: «Положительно», щедро обдав меня слюнной пылью. Я пришел к заключению, что она очень и очень красива, особенно если смотреть на нее через непроницаемый для рентгеновских лучей свинцовый экран.
ПЕРВОЕ МАРТА.
Теперь мне ясно: Вольфсхайм — сумасшедший. Он проверил свою «теорию стакана воды» десяток с лишним раз, и она не подтвердилась ни единожды. Когда я посоветовал ему перестать тратить дорогое время и транжирить деньги, он запустил мне в нос чашку Петри. Для защиты мне пришлось схватить и выставить перед собой бунзеновскую горелку. Вечная история: чем трудней становится работа, тем больше накапливается досады и раздражения.
ТРЕТЬЕ МАРТА.
За неимением испытуемых для наших опасных экспериментов мы были вынуждены обходить рестораны и кафетерии, чтобы, если нам улыбнется удача и кто-нибудь при нас попадет в тяжелое положение, быстро отреагировать. В закусочной «Сан-Суси» я отважился поднять некую миссис Роуз Московиц за щиколотки и потрясти, но, хотя мне удалось освободить ее от чудовищного комка каши, благодарности она не выказала. Вольфсхайм предложил хлопать подавившихся по спине, сославшись на то, что важными гипотезами на эту тему поделился с ним Ферми на симпозиуме по пищеварению в Цюрихе тридцать два года назад. Однако в гранте на их проверку было отказано: правительство предпочло финансировать ядерные исследования. Между прочим, Вольфсхайм тоже претендует на женскую благосклонность Суламифи: вчера в биологической лаборатории он признался ей в любви. Но, когда он попытался поцеловать ее, она стукнула его замороженной обезьяной. Он очень сложный, очень тяжелый человек.
ВОСЕМНАДЦАТОЕ МАРТА.
Сегодня случилось так, что некая миссис Гвидо Бертони в ресторане «Марчеллос вилла» при нас подавилась чем-то, что позднее идентифицировали как либо каннелони,[52] либо мячик для пинг-понга. Как я и предполагал, хлопанье по спине не помогло. Вольфсхайм, неспособный отказаться от своей теории, схватил стакан воды и попытался дать его женщине, но, к несчастью, этот стакан стоял на столе у господина, играющего не последнюю роль в цементном бизнесе, поэтому нас, всех троих, вывели через служебный выход и приложили к фонарному столбу, приложили раз, и другой, и третий.
ВТОРОЕ АПРЕЛЯ.
Сегодня Суламифь выдвинула новую идею: извлекать пищу, попавшую в дыхательное горло, длинными щипцами или пинцетом. Каждому гражданину надо вменить в обязанность носить при себе такой инструмент, а Красный Крест должен будет обучить всех обращению с ним. Горя желанием испытать метод на практике, мы поехали в «Соль морей» Белнапа, где попробовали извлечь из пищевода у некой миссис Фейс Блицстайн плотно засевшую там крабовую котлету. К несчастью, вид больших щипцов у меня в руке сильно устрашил и встревожил ловившую воздух женщину, и она впилась зубами мне в запястье, отчего я уронил инструмент в ее горло. Если бы не стремительные действия ее мужа Натана, который поднял ее за волосы и принялся трясти, как игрушку йо-йо, исход был бы трагическим.
ОДИННАДЦАТОЕ АПРЕЛЯ.
Наш проект закрывается — увы, до того, как мы смогли добиться результата. Финансирование прекращено решением совета фонда, посчитавшего, что оставшиеся деньги можно с большей пользой потратить на разработку жужжалок. Узнав, что нашу группу распускают, я почувствовал, что мне надо подышать свежим воздухом, и, гуляя в одиночестве поздним вечером по берегу реки Чарльз, невольно задумался о границах науки. Может быть, люди должны время от времени поперхиваться едой? Может быть, это часть некоего непостижимого космического замысла? Не излишнее ли это самомнение — считать, что благодаря научным исследованиям мы сможем контролировать все на свете? Человек заглатывает слишком большой кусок бифштекса и давится. Что может быть естественней? Какое еще нужно доказательство утонченной гармонии Вселенной? Нам никогда не будут ведомы все ответы.
ДВАДЦАТОЕ АПРЕЛЯ.
Вчера у нас был последний день, и случайно я увидел Суламифь в буфете, где, листая монографию о новой вакцине против герпеса, она подкреплялась маринованной селедкой. Я подкрался к ней сзади и, желая сделать сюрприз и испытывая блаженство, доступное только любящим, беззвучно обнял ее. Мигом она начала давиться: в пищеводе застрял кусок селедки. Я по-прежнему держал ее в объятиях, и волей судьбы мои пальцы были сплетены чуть пониже ее грудины. Что-то — можете назвать это слепым инстинктом, можете научным везением — побудило меня сжать кулак и резко надавить. Мгновенно пищевод освободился от селедки, и через считанные секунды обворожительная женщина целиком и полностью оправилась. Когда я рассказал об этом Вольфсхайму, он заметил:
— Да, конечно. С селедкой этот метод работает, но будет ли он работать с черными металлами?
Что он имел в виду — не знаю и не хочу знать. Проект закрыт, и можно сказать, что мы потерпели неудачу, — но по нашим стопам последуют другие и, взяв за основу наши грубые предварительные результаты, в конечном итоге добьются успеха. Мы, все трое, искренне убеждены: настанет день, когда наши дети — а если не они, то внуки уж точно — будут жить в мире, где никому, вне зависимости от расы, вероисповедания и цвета кожи, не будет грозить бедой ни завтрак, ни обед, ни ужин. Закончить я хочу на личной ноте: мы с Суламифью намерены пожениться, а пока, дожидаясь улучшения экономической ситуации, она, я и Вольфсхайм решили предоставить желающим весьма важную услугу — открыть поистине первоклассный тату-салон.
Решили перекусить, и за столом пошел разговор о пустых людях, которых каждый знал не мало. Копельман вспомнил такого Ленни Менделя: более пустого малого, сказал он, я в жизни не встречал. И поведал нам следующую историю.
Когда-то составился кружок любителей покера. Много лет подряд раз в неделю снимали номер в гостинице и неизменной мужской компанией играли по маленькой — исключительно для удовольствия. Расслаблялись, делали ставки и блефовали, выпивали и закусывали, трепались о сексе, о спорте и о делах. И вот однажды (никто потом не мог вспомнить, когда именно) приятели обратили внимание, что Меер Ишкович неважно выглядит.
— Да бросьте, — отмахнулся он, — все в порядке. Чья ставка?
Но с каждым разом Ишкович выглядел все хуже и хуже и однажды не пришел на игру. Вроде бы слег в больницу с гепатитом. Однако у всех были самые мрачные подозрения, и когда недели через три Сол Кац позвонил на работу Ленни Менделю, работавшему на телешоу в Эн-би-си, и сказал: «Бедняга Меер, представляешь, у него рак. Уже увеличены лимфоузлы. Безнадежно. Метастазы по всему телу. Он лежит в Слоун-Кеттеринге», это, в общем, было не совсем громом среди ясного неба.
— Какой ужас, — сказал Мендель и ощутил, как внезапно накатила глухая тоска и стало познабливать. Он отпил немного чая с молоком.
— Мы с Авой сегодня ходили к нему. Бедолага ведь совсем один на белом свете. Выглядит чудовищно. Слушай, а был такой здоровяк, да? Вейзмир, что за жизнь… В общем, Ленни, он в Слоун-Кеттеринге. Пускают с двенадцати до восьми.
И Кац повесил трубку, оставив Ленни Менделя в тяжелом расположении духа. Менделю было сорок четыре. До сих пор он полагал, что здоров. Внезапно такая самоуверенность показалась ему дурным знаком. Ленни подумал, что Ишкович старше всего на шесть лет. Они никогда не были особо близки, но все же немало повеселились за картами за эти пять лет. Бедняга, бедняга. Наверное, надо послать ему цветочков. Ленни велел секретарше Дороти пригласить флориста и все устроить. Мысль о неотвратимой смерти Ишковича повисла над Менделем черной тучей. Однако вскоре его начала беспокоить другая мысль: о неизбежном походе в больницу. Ясное дело, все ждут, что он пойдет. Малоприятная перспектива, думал Мендель. Он одновременно испытывал стыд за свое малодушие — и страх увидеть умирающего Ишковича. Конечно, Мендель знал, что люди смертны; однажды он где-то прочитал, что смерть — не отрицание жизни, а ее неотъемлемая часть, и это его более-менее утешило. Но стоило всерьез задуматься о неотвратимости собственного небытия, и Менделя охватывала безудержная паника. Он не был человеком верующим, не считал себя ни героем, ни стоиком и предпочитал ничего не знать про похороны, больницы и специальные палаты для безнадежных больных. Повстречав на улице катафалк, он часами не мог избавиться от ужасного образа. Он хорошо представлял себе, как будет сидеть с исхудавшим Ишковичем, неуклюже пытаясь шутить и якобы непринужденно беседовать. Господи, как же он ненавидел больницы, их мертвенный свет и бездушный кафель! И непременные разговоры вполголоса, многозначительные перешептывания, духоту вечно натопленных палат, подносы с тарелками, судна, стариков и калек, в халатах и пижамах шаркающих по коридорам, и спертый воздух, кишащий бог знает какими микробами. А что, если рак в самом деле передается по воздуху? Ведь я буду всего в двух шагах от смертельно больного человека. Черт побери, давайте посмотрим правде в глаза: что мы знаем об этой страшной болезни? Да ничего. И вполне вероятно, однажды выяснят, что какая-то из миллиарда ее разновидностей передается-таки через кашель? Через кашель Ишковича — прямо мне в нос? Или через похлопывание по плечу. Потом Ленни подумал, что Ишкович может умереть прямо в его присутствии, и пришел в ужас. Он ясно представил, как его прежде полный жизни, а ныне изнуренный страданиями приятель (как-то неожиданно стало ясно, что Ишкович — просто добрый приятель, не то чтобы друг, но добрый приятель) протягивает к нему руки и хрипит: «Я не хочу, не хочу… Помоги мне, Ленни!» О боже, боже! — на лбу выступила испарина. Ну как я пойду? И в сущности, с какой стати? Черт побери, мы никогда не были особо близки. Да ради бога, я виделся с ним раз в неделю. Карточный партнер — и все, не более того. Привет-привет. Мы вообще редко разговаривали. Просто партнер. Пять лет встречались только за картами и больше нигде. Теперь он умирает, и неожиданно оказывается, что я должен его навещать. Ни с того ни сего выясняется, что мы старинные друзья. Чуть не закадычные. Помилуйте, да в нашей компании любой был с ним ближе, чем я. В сущности, я самый далекий Мееру человек. Ну так пусть они его и навещают. В конце концов, сколько гостей нужно больному? Поймите, ведь он умирает. Ему требуется покой, а не толпа досужих доброжелателей. Как бы там ни было, сегодня я все равно не могу. У нас прогон в костюмах. Можно подумать, я тут бью баклуши. Меня только-только назначили ассоциированным продюсером. У меня совершенно забита голова. И ближайшие дни тоже отпадают, потому что впереди рождественское шоу и тут начнется сумасшедший дом. Стало быть — только на той неделе. Ничего не поделаешь. В конце той недели. А там посмотрим. Еще неизвестно, дотянет ли Меер до конца той недели. Дотянет — хорошо, я навещу его, а если даже нет — черт побери, какая разница? Может, это звучит жестоко — пускай, жизнь вообще жестока. А пока что надо размять вступительный монолог. Почти нет шуток на злобу дня. Вообще мало сильных реприз.