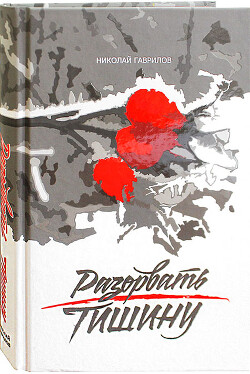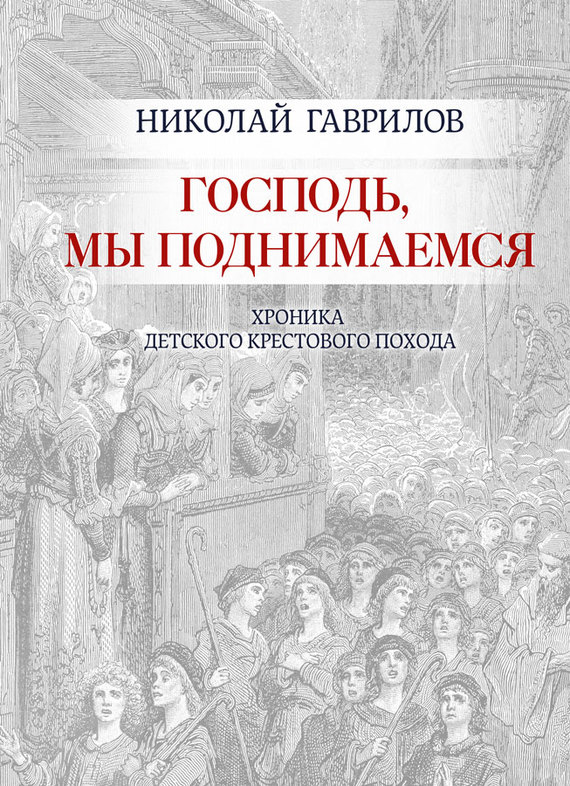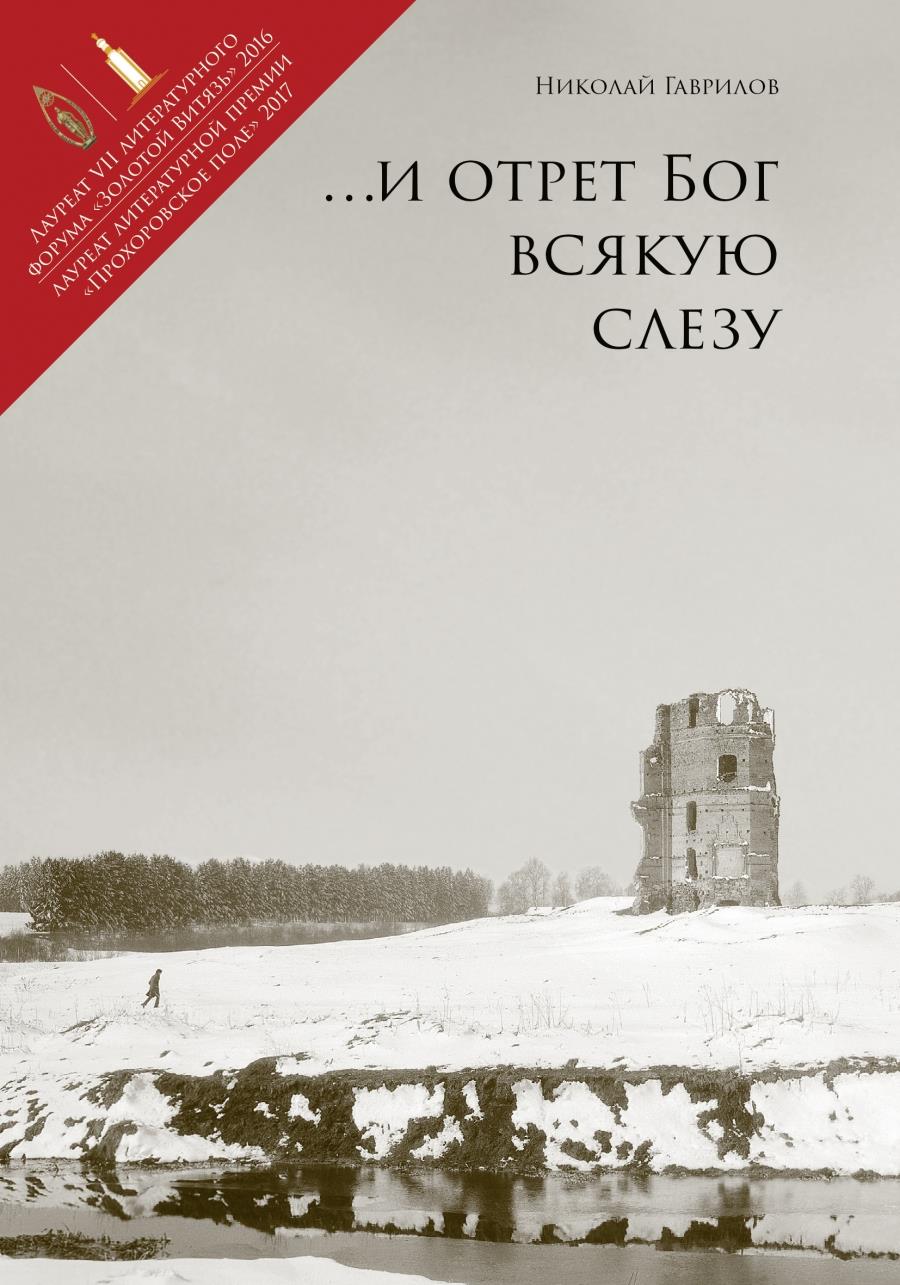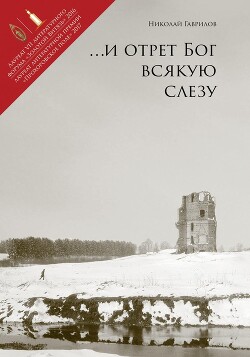Пока снизу доносились плачь и крики, испуганный Санька замер у окна. Папа и курчавый парень суетились внизу. На верхней полке, кроме Саньки, остался только старичок в парусиновом костюме и седой монах. Какое-то время монах продолжал лежать с закрытыми глазами, словно надеялся внутри себя спрятаться от чужих слез, потом подвинулся поближе к Саньке и тоже стал смотреть в окно.
— Дяденька, а почему эта тетя плачет? — шепотом спросил его Санька.
— Отказались от нее все, наверное… И муж, и дети. Так, брат, бывает, — тоже шепотом ответил мужчина.
— Как это — отказались? — удивился Санька.
Но монах ничего не ответил, продолжая сквозь решетки смотреть на черный лес и черное небо. Желтые отсветы от окон вагонов на миг вырывали из темноты густые ели и кустарник вдоль полотна. Эшелон полным ходом шел на восток, навстречу еще не видимому солнцу. Пройдет всего три месяца, и другой, повзрослевший Санька, размазывая по щекам болотную грязь и слезы, будет своими руками разрывать мокрые тяжелые мхи, чтобы похоронить эту женщину в жидких торфяниках Назино. К тому времени он уже полностью будет осознавать значение слова «отказались», слова, за которым дальше — лишь пустота. Но пока он ничего не понял, кроме того, что кто-то поступил плохо.
В двенадцать лет еще не знаешь, что взрослые выдумывают каждый для себя свою правду, забывая, что правда одна. В двенадцать лет на свете есть только два цвета — черный и белый, — и что плохо для одного, плохо для всех.
— Дяденька, а вы взаправду монах? — через минуту снова зашептал Санька.
— Взаправду? — неожиданно усмехнулся Досифей и, наверное, впервые внимательно посмотрел на мальчишку. — Это, брат, вопрос… Наверное, нет. Ушел я из монастыря.
— Куда ушли? — окончательно запутался в сложной жизни взрослых Санька.
— Не знаю, — непонятно ответил мужчина и тихо, словно для себя, добавил. — И с тех пор тянутся предо мною глухие, окольные тропы…
* * *
Через четверо суток, наполненных разными дорожными событиями: остановками, перецепкой вагонов и длинными перегонами, за решетками окон наконец показались каменистые гряды Уральских гор. Погода стояла солнечная, в северную Азию пришла запоздалая весна. Сосны и ели были покрыты тяжелыми белыми шапками снега, в низинах и распадках искрились на солнце глубокие снега, но под сугробами, уже журча, собиралась по каплям талая вода. Желто-серые скалы не пропускали за свои склоны теплый атлантический ветер. Дальше, за Уральским хребтом, воздушными потоками дышала без дыхания ледяная Арктика. Здесь, на этих склонах, простиралась граница двух климатических зон, и даже в ясную, солнечную погоду на вершинах хребта лежали серые густые туманы.
По ту сторону туманных гор снова светило солнце, весенняя тайга с тихим шипением освобождалась от снега, набухали бескрайние болота, на сибирских реках гремели ледоходы. За заснеженными ущельями Урала начиналась совсем другая жизнь; казалось, что само время, как и ветра, не в силах проникнуть за северные отроги хребта. Эпохи сменялись только на юге, в городах, где жили русские, а в тайге время продолжало постоянно ходить по кругу: места стойбищ и наряды шаманов не менялись веками, а наскальные рисунки неолита отражали никак не стареющую действительность. Там добрые манси до сих пор жили охотой и рыболовством и, убив медведя, наивно пытались обмануть его вечный дух, шепча в ухо отрубленной медвежьей голове: «Это не мы тебя убили. Ты сам умер, просто забыл об этом…»
Манси, словно вечные дети не знали времени, за северными хребтами его не существовало. Оно, как любая сибирская река, просто терялось в бескрайних таежных болотах. Эшелон, добавляя в городах новые вагоны, незаметно пересекал границу двух миров.
Конвой 5-го белорусского конвойного полка ОГПУ, вместе с молодым впечатлительным командиром, сменился еще в Смоленске. Поздней ночью, где-то на окраине города, состав загнали на запасные пути, вагоны отцепили, и паровоз, сдерживая в котлах пар, медленно уехал в депо. Под окнами вагонов застучали молотки обходчиков, в теплушке солдаты разбирали вещевые мешки и подсумки с патронами. Шла обычная суетная смена конвоя.
До прибытия в Смоленск, в маленьком прокуренном купе молодой начальник этапа, в накинутой на плечи шинели, полночи пытался сочинять стихи вместо рапортов. Юности свойственно идеализировать свои чувства. Привычные слова казались молодому человеку слишком бедными для его любимой, поэтому он часто перечеркивал торопливые строки, шаркал под столом ногами и подолгу смотрел в темное окно. Ему представлялось, как далеко-далеко, в спящем городе, его невеста у себя в комнате тоже смотрит в окно и пишет на стекле его имя…
Полночи молодой командир пытался отразить свою нежность на бумаге. Молодость еще не знает, что любовь не надо выплескивать в никуда, ее надо в полной тишине хранить в себе, как в закрытом сосуде, расходуя только на тех, кого любишь. Тогда ее хватит надолго… Ведь, пытаясь обнять весь мир, мы так широко расставляем руки, что в наши объятия, проскакивая, не попадают даже те, кто стоит рядом.
Когда паровоз, маневрируя на стрелках, потянул состав в тупик, молодой человек заторопился. Он спрятал листки с недописанными стихами в карман галифе, надел портупею и достал из-под полки опечатанный портфель с учетными карточками ссыльных. Толстый, запечатанный сургучом конверт с сопроводительными листами на высылаемых в Иркутск никак не влазил в планшетку с общими документами этапа, поэтому молодой командир просто спрятал его во внутренний карман шинели.
Мозаика событий собирается из фрагментов, каждый из которых сам по себе ничего не значит. В заброшенной фактории, у топкого берега Оби, усталый, заросший черной щетиной уполномоченный не решился докладывать начальству, что задание невыполнимо, и при составлении отчета сознательно допустил ошибку купцов Елизаровых. Совсем в другом месте, в другое время, другой человек, облегчая себе работу, внес фамилии административно высылаемых в общие списки ссыльных по директиве паспортизации и запечатал сопроводительные в отдельный конверт. В этих двух событиях не было ничего, что несло бы прямую угрозу инженеру, маленькому Саньке или женщине в желтом вязанном берете, но молодой начальник этапа, не желая никому из них зла, все-таки связал ниточки случайностей в один узелок, забыв о конверте во внутреннем кармане своей шинели.
Если бы этап формировался в Минске, конверт наверняка попал бы в нужные руки, и жизненные пути разных людей не пересеклись бы в маленькой точке заболоченного устья Назино. Но формировка этапа шла по ходу движения, паспортизация проходила по всей стране. Вагоны постоянно отцепляли, прицепляли к другим составам, конвой менялся, и только когда на горизонте показались темные отроги Уральских гор, эшелон пошел без остановки.
В жарко натопленной караулке, на пустынной, утопающей в снегах станции под Пермью, усталый старшина, принимая этап, спросил прежнего начальника караула:
— Слушай, командир, напротив этих фамилий написано — «сопроводительные
прилагаются». Какие сопроводительные, где они?
— Не знаю, — пожал плечами начальник караула. — Мне никто ничего не передавал. Посмотри по подписям.
— Черт его знает, что они там, в Минске, намудрили. Ладно, принял, расписываюсь, — вздохнул старшина. — В Тобольске сдам как есть, а потом пусть сами разбираются, если это важно… Кстати, как там в вагонах? Блатные воду не мутят?..
* * *
Ранним солнечным утром, за Нижним Тагилом, когда эшелон, клубясь дымом, пересекал заснеженные леса перед западными склонами Уральской гряды, случилось первое чрезвычайное происшествие. К тому времени жизнь в вагонах как-то наладилась; люди, те, кто не замкнулся в призрачном мирке своего одиночества, начали общаться друг с другом, а в отсеках, где собрались бездомные, уже тихо и въедливо травили самых слабых. Так было и так будет всегда, стоит только людям оказаться в условиях, где каждый выживает за счет соседа. Редкие вкрапления «административных», которые по неопытности сели в те купе, теперь жались по полкам, задвигая свои чемоданы и мешки подальше под ноги. Под голодными взглядами свой собственный кусок хлеба приходилось есть как украденный, и совсем плохо было тому, кто так и не научился говорить «нет».