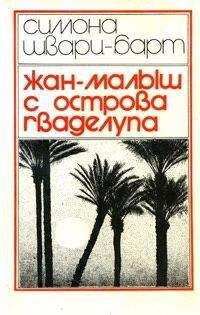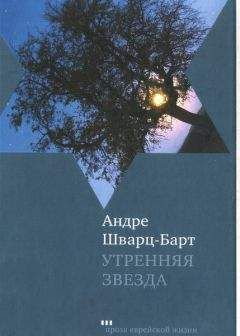— Может, солнце вернется завтра…
— Может быть…
— Хотя что-то не верится, чтобы оно вернулось, — произнесла она, не глядя на юношу.
Губы Эгеи расплывались в неудержимой улыбке, и она украдкой прикрыла рукой рот, белые зубы, стараясь подавить душивший ее неуместный смех, и, хотя девушке это удалось, глаза ее блестели предательски весело.
— Эгея, дорогая моя Эгея, — с ласковой усмешкой промолвил наш герой, — что-то не верится мне, будто тебя это тревожит, у тебя, верно, не сердце, а камень…
— Не говори так. Сердце у меня не каменное, а женское, и ты это знаешь, просто женщину ничто не должно заставать врасплох…
Помолчав, она заговорила вновь, все еще не глядя на Жана-Малыша, и теперь голос ее задрожал, будто прорываясь сквозь подступавшие к горлу слезы:
— Я знала, я всегда знала, что жизнь — это не река, а океан и она никуда не течет… Ты хотя бы нашел, что искал?
— Искал?
— Ну как же, ты ведь все время где-то пропадал, все ждал, как и Ананзе, грозы.
— Да, я ждал грозы, но она так и не собралась. Только при чем тут Ананзе?
Она тоже с грустью думала о потерянных годах и произнесла, улыбнувшись, чтобы скрыть волнение:
— Ананзе ведь тоже хотел спасти всех нас…
— А ты, стебелек мой зеленый, кого ты хотела спасти?
Она опять беззвучно усмехнулась:
— Я? Никого. Я хотела только, чтобы меня спасли…
Одна за другой гасли звезды, и открывались двери хижин, и все лица жадно тянулись к небу, которое заволакивала серая, с мерными слюдяными отблесками пелена. Потом на людей и на кроны деревьев медленно спустилась вчерашняя мгла, и, прежде чем она обволокла все вокруг своим туманным тюлевым пологом, разъединяя и оставляя в одиночестве все живые существа, природа на миг испуганно примолкла.
Девушка долго не теряла надежды, но, когда серая вуаль коснулась ее плеч и плеч ее лесного друга, накрыла и разделила их, она коротко всхлипнула и кинулась прочь, к отцовской хижине…
Горько было нашему герою, что Эгея убежала вот так, не сказав ни слова, но вот он выжидающе замер в полу тьме: ему показалось, что он услышал в себе какой-то щелчок, условный сигнал. Может быть, сейчас и начинается обещанная Вадембой история, моя собственная, подумал он. До сих пор он мечтал только о ратных подвигах, о борьбе не на живот, а на смерть, о восстаниях, битвах во мгле и геройской смерти, ведь вроде бы это и предсказывал дед; что же получается, думал он, слегка оробев, оказывается, моя история слита с судьбами мира, с движением самого светила?
С наступлением звездной ночи он направился по горной тропе к плато, чтобы забрать свое наследство: бес ценный мушкет, который ждал его в могиле Вадембы. В мыслях он уже видел, как изрешетит Чудовище из волшебного ружья, как над Лог-Зомби, Гваделупой и всем миром вновь взойдет солнце, а он — и победитель, и побежденный — навсегда уйдет в тень, как и полагается настоящим героям. Да, да, он все это уже ясно видел, присутствовал на этом спектакле, сидя в первых рядах, как вдруг страх захлестнул его, швырнул вниз к подножию горы, с раскрытым в немом крике ртом…
Над Лог-Зомби ночь только-только вступила в свои права, а Жан-Малыш уже окунулся с головой в непроницаемую тьму. Светляки блестят в темноте сперва для себя, а уж потом для других, говорится в одной пословице; вот так-то, хотел ты вернуть людям солнце, а сам угодил в непроглядную мглу да и сгинул в ней…
Пока наш герой лихорадочно соображал, куда же юркнуло со страху его сердце, в деревне началась новая жизнь. Весь день никто не выходил из дому, двери и окна хижин были наглухо закрыты — все ждали появления луны, чтобы пойти разузнать новости, выкопать в огороде картофелину-другую или забежать в лавку и поклянчить там капельку растительного масла. А потом сверху опять опускалась серая кисея, и люди, смолкнув, спешили по домам, подавленно озираясь на безжизненный и одинокий, застывший раз и навсегда в туманном чаду мир. Даже деревья и те казались чужими — мертвые, огромные, жутковатые муляжи, которые будто извлекли из картонных магазинных коробок и, даже не сняв с веток упаковочную вату, расставили в мрачную, застывшую декорацию. Дни тянулись долго, бесконечно долго, и каждая минута была целой вечностью, за которую успевали истлеть и рассыпаться в прах человеческие тела. Радио совсем замолчало, даже птицы и те затихли, онемели. Они кружили в серой мгле вокруг коптивших светильников, и от трепета их шелковых крыльев щемило сердце. И птицы, и звери тянулись к свету и сами шли под дуло ружья, в них стреляли с порогов хижин, даже голыми руками ловили. А потом расстроился и точный механизм, который связывал все живое с небесными светилами; и вот стали исчезать, потом вовсе пропали птицы, а за ними бесшумно ушли звери, которые было спустились с гор, научившись, как и люди, обходиться вместо солнца луной…
Раз в неделю к мэрии Лараме подвозили на грузовиках из Пуэнт-а-Питра муку, сахар, керосин, вяленую треску. Продукты распределяли по воскресеньям с восходом луны. Их отпускали на каждую душу, и потому в эти дни к побережью при свете сотен факелов тянулись с окрестных гор вереницы запряженных буйволами повозок, в которых везли беременных женщин, калек и немощных стариков. Несметные толпы верующих собирались на утреннюю молитву на широкой площади перед маленькой церквушкой колониальных времен, чтобы, стоя на коленях, услышать из динамиков, развешанных на деревьях, слово господне. Сотни курчавоголовых грешников с замиранием сердца слушали проповедь, боясь, что их сейчас громогласно обвинят во всем случившемся. Но, к великому облегчению молящихся, их ни в чем не обвиняли, и святой отец, как никогда пылко проклинавший дьявола, вроде бы уже позабыл, что тот черный, и утверждал, что бог покарал весь род человеческий без разбора. Растроганная до слез толпа благодарно вздыхала. После мессы люди поднимались на ноги, стряхивали с коленей песок и становились в очередь вдоль железной ограды мэрии. Установленные на воротах прожекторы освещали внутренний двор, где под охраной солдат из гарнизона Бас-Тер стояли грузовики. Люди медленно проходили между ряда ми автоматчиков к столику, за которым сидел мэр, тот сам опознавал подходившего и ставил в своем списке галочку. Потом очередь тянулась к кузову одного из грузовиков, и там жандармы отпускали каждому его недельный паек. На лицах белых в их мундирах и черных в их лохмотьях читалась одна и та же гнетущая подавленность, и всякий раз, когда Жан-Малыш подходил к кузову, он говорил себе: до сих пор только смерть объединяла нас с белыми, а теперь еще и страх. Потом он получал нищенскую порцию муки и керосина и брел назад в длинной веренице факелов, которая тянулась от мэрии до церкви. Он не искал в толпе знакомых, безвольно отдаваясь людскому потоку, заледеневшее его сердце не тянулось уже ни к кому, кроме матушки Элоизы, только с ней он по-прежнему был ласков и добр. Позади церкви, под раскидистыми кладбищенскими фламбуаянами, не сколько бездельников шепотом обсуждали последние известия о комете. Каждую неделю появлялись все новые объяснения случившемуся, темное дело становилось яснее ясного, вот только затмение что-то уж очень затягивалось. Как-то в воскресенье, повстречавшись с блаженным папашей Кайя, который, как и все, начал было взахлеб рассказывать о комете, наш герой не сдержался и шепнул ему на ухо:
— Ну как вы можете говорить такое, папаша Кайя? Вы ведь не ныряли на дно морское и не водили там хороводы с рыбками, когда эта проклятая корова бежала через деревню?
Папаша Кайя ошарашенно глянул на него своими вечно тревожными, как у испуганной птахи, глазами и упавшим голосом произнес:
— Пожалей меня, сынок, в этой буре мы и так вот-вот пойдем ко дну, а ты хочешь еще больше нагрузить мою лодчонку. Мне известно лишь, что белые знают небо лучше, чем я — содержимое своих штанов: они летают на него в своих ракетах, они пересчитали по одной все звезды и каждую назвали собственным именем. Мне ли, Огюсту Кайя, объяснять им, что стряслось с солнцем? Ну а если совсем начистоту, так ты что же, считаешь, у нас глаза зорче, чем у других, коли мы видали, как взлетела эта штуковина, а другие — нет? Если она вообще взлетала…
Жан-Малыш устало пожал плечами: но что же мы тогда видели, папаша?
— Сын мой, — торжественно произнес в ответ папаша Кайя, — разреши мне сказать: то, что мы видели, только в бреду и можно увидеть, вот и все!
Но вот в одно из воскресений жители Лог-Зомби, спустившиеся в город за продуктами, увидели, что церковь и двор мэрии пусты и безлюдны, нигде и следа жандармов не было: все белое начальство исчезло, растворилось во мгле…
И возвратились они, сирые, восвояси без божьего благословения, с пустыми руками. Пришлось подбирать на полях оставшиеся стебли сахарного тростника, копаться в земле — вдруг еще отыщется клубень-другой. Но и сами уцелевшие растения выглядели странно, будто впитали в себя серую мглу; а что же будет с ними дальше? — думали люди, вдруг комета еще долго не захочет отлетать от солнца? Смятение нарастало, а тут еще среди паники кто-то ограбил бар тетушки Виталины и тесную лавчонку старушки Сиприенны. На следующий же день белые извлек ли из чехлов оружие и раздали его своим слугам — понимай как хочешь. Теперь никто не осмеливался и близко подойти к особнякам с порталами и колоннами, в которых, как говорили, всякой жратвы было видимо-невидимо — хватило бы на всю Гваделупу и прилегающие острова. Так что белые, похоже, умирать не собирались, и это никого не удивляло, ибо в глубине души все понимали, что если бытие черных непрочно, ненадежно, висит на тонком волоске — задень и оборвется, — то никакие грозные стихии не могли помешать белому человеку продолжать свое существование, которое благословил, сам господь бог. Тут уж действительно обижаться не на что: ведь издавна было известно — и только из-за наступившей темноты об этом вдруг позабыли, — что равны люди лишь перед смертью, что только у костей человеческих один и тот же цвет, одна и та же участь…