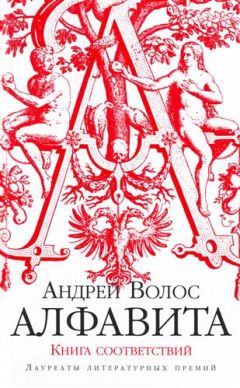Абель сидел, съежившись, и не решался защищаться. Он крошил пальцами пряник, не осмеливаясь его есть, пока не закончится обвинительная речь. Отсмеявшись, отец Киприан принес из комнаты Писание, постелил на стол чистое полотенце, перекрестившись, раскрыл книгу на определенной странице.
— Вот это, юноша, Книга Иова. Даю вам полтора часа на то, чтобы ее прочесть и немного подумать о прочитанном. После чего я вас расспрошу, до какой новой ереси вы додумаетесь по прочтении.
Но сперва он сам пролистал несколько страниц, и, улыбаясь и хмурясь каким-то своим тайным мыслям, зачел вслух — тем же голосом, что с амвона, торжественно-мягким, намного звучней и красивей, чем обычный его голос в разговоре:
— «Дни мои прошли; думы мои — достояние сердца моего — разбиты. А они ночь хотят превратить в день, свет приблизить к лицу тьмы. Если бы я и ожидать стал, то преисподняя — дом мой; во тьме постелю я постель мою… Где же после этого надежда моя? и ожидаемое мною кто увидит? В преисподнюю сойдет она и будет покоиться со мною в прахе…» Это вам, юноша, не разбитая крынка с молоком. Это история о человеке, которого Господь стал испытывать на прочность. Пока у него отнималось достояние, он терпел и славил Господа. Говорил осмысленные вещи: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Но когда дело дошло до его собственной жизни и его собственной души… Тут с ним случилось то, что рано или поздно происходит с каждым из нас, да, с каждым из нас. И нужно молиться о том, чтобы когда оно случится с тобой, суметь ответить как этот самый праведник Иов из земли Уц. Читайте, юноша, мне интересно, как воспримет его ответ ваш молодой и неискушенный ум.
Молодой и неискушенный ум Абеля трудился более двух часов. Трудился над историей человека, которому в ответ на его судебный иск — «Зачем мне так плохо» — Господь показывает бегемота, коня и левиафана. И он, весьма впечатленный этим зрелищем, понимает, что Бог творит, что хочет, и остается любить Его и надеяться на Него, даже когда Он убивает тебя. Даже когда любить и надеяться не получается.
Выслушав своеобразный комментарий Абеля, отец Киприан похлопал его по плечу и сказал:
— Вот уж воистину — «Мы трудились всю ночь, но ничего не поймали»! Что же, юноша, пойдемте-ка, я уложу вас спать. Я вам постелил на диване, если вы не против. А толковать Книгу Иова вы еще будете учиться. Но не у меня, нет… Вовсе не у меня.
А у кого же, спросил тогда Абель — и не получил ответа…
…Утро, в которое он выпал из своего богословского сна, оказалось беспросветно серым. Первое утро безвременья, которое наступило через день после утраты электронных часов. В тот день Адаму удалось раздобыть шесть крупных мидий и две мелкие. Все это хозяйство он съел сам, потому что Абеля рвало не переставая. От воды он воздерживаться не мог — поэтому его рвало той же самой дурной водой. А потом — как всегда — желудочным соком, последней оставшейся водой тела. «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злое… не будем принимать?» Адам что-то прикинул и сделал на деревяшке зарубку, приняв решение отмечать каждый новый прошедший день. Но потом ему стало почему-то так страшно — представились два объеденных чайками и крачками скелета, лежащих на настиле, испещренном зарубками — и он стесал ее и весь день сидел на берегу, глядя на далеких птиц, мельтешивших в воздухе, как хлопья пены. Даже их крик заставлял его сглатывать слюну.
* * *
Прошло сколько-то дней. Наверное, четыре. А может, пять. По крайней мере, несколько раз тьма и холод сменялись серым светом. За это время Адам ел единожды — ламинарию. Абель — ни разу. Братья почти не разговаривали. Один из них лежал на месте или же отползал с помощью старшего на несколько шагов в сторону, в туалет; другой все бродил, спотыкаясь, по берегу.
Адам начал кашлять. Откашливал мокроту, несколько раз имевшую подозрительно розовый оттенок. Абелю некогда было кашлять, потому что он все время блевал. Удивительно, как много может выйти из человека, притом что не входило вовнутрь практически ничего!
По лицам братьев трудно было сказать, сколько им лет. Особенно непонятен стал Адам. Он оброс какой-то странной бородой — волосы затягивали его лицо, как болото, захватывающее травянистый берег. Прежде красивая светлая шевелюра свисала сероватыми сальными космами. Губы и ноздри обвела черная каемка. Он походил на бездомного запаршивевшего пса, волочащего ноги вокруг да около пустого мусорного бачка.
На исходе мутно-серого дня, в который Адаму не перепало ни мидий, ни ламинарии, его позвал брат. Подобное событие происходило несколько раз в день — когда Абелю нужно было встать, чтобы сходить по нужде — но последние сутки Абель не ходил в туалет, и его зов застал брата врасплох. Адам сидел на берегу, на базальтовом мысу, и смотрел туда, где однажды ночью заметил красную звездочку маяка. Сначала он смотрел, не замечая, что из угла рта стекает нитка слюны; потом свесил голову между колен и задремал, вернее, впал в тупое околосмертное оцепенение, прерываемое только короткими сериями лающего кашля. Наконец голос Абеля проник сквозь дремотную тупость созерцания вечности, и Адам, поднявшись, потащился к нему. Этот путь — в три прыжка для здорового человека — теперь занимал у него несколько минут.
Брат лежал, как и раньше, на деревянном настиле, подогнув под себя одну ногу. Нога согнулась под странным углом, как неживая. Адам тупо взглянул на него, протянул руку, чтобы помочь подняться. Абель накрыл его ладонь своей, сухой, как кусок коры.
— Не надо.
Адам сморгнул. Глаза его слезились от простуды, в углах их собрались сгустки желтого гноя. Раньше Адам различал за километр, что за птичка сидит на крыше — синица или трясогузка. Теперь не мог как следует рассмотреть лица своего брата. Для этого пришлось протереть глаза, сдирая с них заодно корку присохшей соли.
— Чего тебе?
— Сядь, — выговорил Абель сухим и ломким голосом. Так громко он не говорил уже пару суток — обычно шелестел или постанывал. — Адам… Я хочу исповедаться.
— Чего? — переспросил тот, стараясь продраться сквозь пелену собственной отстраненности.
— Исповедаться. За всю свою жизнь.
— Чего? — снова спросил Адам, все еще не понимая. Сосущая боль на месте желудка поглощала все внимание, не желая делиться ни с кем. Странное ощущение — будто кто-то пытается выпить тебя изнутри.
— Я умираю, брат, — строго и внятно сообщил Абель. И так он это сказал, что Адам мгновенно поверил. Пелена на миг спала с его глаз, и он увидел своего брата. Увидел таким, каким его сделали почти две недели обезвоживания.
Абель был более чем худ: почти бесплотен — и сух, как мертвое дерево без единой капли древесного сока. Пергаментная кожа, кое-как обтягивающая лицо, не смогла дать жизнь даже подобию бороды — на подбородке топорщились несколько волосков, таких же сухих, мертвых уже при рождении. Подбородок у Абеля и так всегда был острым — а теперь походил на выступающую голую кость. Руки Абеля лежали на груди, что-то беспокойно, почти рефлекторно перебирая; кончики их с отросшими, обведенными черной каймой ногтями казались синеватыми. Адам вспомнил касание его руки — совсем холодное. В маленьком теле не оставалось тепла, чтобы продолжать работать.
Губы его тоже сделались голубыми. И двигались едва-едва. Даже странно, что из этих сухих растрескавшихся губ выходил такой внятный голос — правда, хрипотца сделала его на несколько тонов ниже, будто не брат говорил с Адамом, а кто-то другой, пробравшийся в его тело.
Адам послушно сел рядом, накрыл руки брата своей ладонью — все еще широкой, все еще теплой, по крайней мере, если сравнивать с Абелем. Под ладонью обнаружилось то, что с таким тщанием перебирал младший брат. Какие-то шарики, словно бусы. Ах да, конечно же, не бусы — четки. Абель всегда молился по четкам. И это его тоже не спасло.
— Я же не священник, — сказал Адам. Нужно было хоть что-то сказать.
— Ничего. Если нет священника, можно исповедаться… Тому, кто рядом. А если нет никого — то… и так можно.
Адам тихо замычал от дикого ужаса. Осознание того, что после смерти Абеля он останется здесь умирать один, совсем один, пришло не сразу — но такого страха он никогда еще не испытывал.
В попытке погладить его по руке — утешить, с ума можно сойти! — Абель чуть шевельнул своими морщинистыми пальцами, которым стала велика кожа рук.
— Ты… не умрешь. Ты останешься. Я… уверен.
Адам ничего не ответил. Ему было нечего ответить на эту неправду.
Абель закрыл глаза — веки его стали тяжелыми и морщинистыми, с обожженного солнцем и обветренного лица кусками отшелушивалась кожа, как у змеи, которая меняет свою шкуру. Абель готовился окончательно сменить шкуру, сбросить ее здесь и уйти. Совсем уйти.