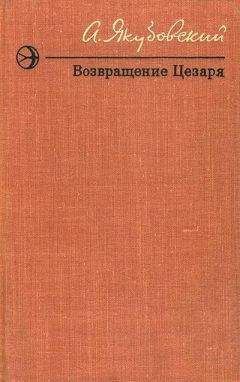Я подбежал — лицо его было удивленным и сердитым.
— Где ты был? Я так боялся за тебя.
Старик сказал, что гулял в лесу (там, кстати, можно будет поохотиться с телевиком на синиц-аполлоновок) и нашел вкусные грибы.
И вывалил из карманов эти грибы, сделанные как бы из мокрых оберточных бумажек. Пахли они гнилушками, а назывались осенними опенками.
Затем пошли прогуляться. Мы перешли березовый лес, озимое поле и другой лес, сосновый. За ним был овраг, доверху полный осинами.
И, стоя у этого оврага, мы услышали глухие, как больной кашель, удары. Они возникали где-то очень далеко и перекатывались справа налево и обратно.
Отец сказал мне, что стреляют из большого ружья зарядами черного пороха. Очень красиво: из ружья вырывается светящийся клуб. Значит, мы не одни. Кто-то еще охотился здесь, в этих глухих местах. Это мне не понравилось.
На следующий день мы перешли овраг и потопали себе дальше. По дороге нам встретились сухие зонтики пучек. Старик учил меня отличить горькую пучку от настоящей — сладкой — по блеску кожицы.
Но кто в наше время ест пучки!
У ручья мы увидели босые когтистые следы. Старик заявил, что это след барсука.
— Снимем его, — предложил я. Мы стали искать барсучью нору: приняли его след за центр и стали ходить, словно привязанные к нему веревочкой.
Мы то поднимались по склону, заросшему сухими пучками, то спускались назад. Раз двести мы прыгали через этот ручей и все расширяли и расширяли круг.
Старик устал. Он дал мне ФЭД, и я стал ходить один. Барсучью нору я нашел на бугре, среди березок. Около широкого входа лежала надкушенная луковица сараны.
Такой аппетитный вид у луковицы!
Я догадался: пока мы ходили, барсук смотрел с высоты и надкусывал эту луковицу.
Я посидел около норы, положив фотокамеру на колени.
Я сидел — и барсук тоже. Он тоненько бормотал что-то под землей.
А с деревьев, щелкая, отрывались и падали листья.
Старик вдруг свистнул.
Я не видел его сверху, а только черемухи, около которых он сидел. Но когда перепрыгнул ручей, то уловил ветерок: он нес запах. Не отцовский, а чужой, густой, табачный.
Значит, кто-то пришел и будет совать нос в наши дела.
Взрослые любят совать нос в чужие дела, расспрашивать о школе и отметках.
Я шел, недовольный чужим запахом, как собака, и увидел, что отец не один, около него сидит маленький человек с большим ружьем.
Они беседовали. Поднимался дым: человек курил и беззвучно смеялся, глядя на меня. Должно быть, Старик проболтался о моих школьных делах.
Я пошел охотничьим утиным шагом. И, как всегда под чужим неприятным взглядом, меня пошатывало.
Я подошел и увидел — человек не смеялся, просто у него узенькие черные усы.
Оттого казалось, у него два рта, один черногубый, а другой красный. Сам он еще не старый и ловкий, в кожаной начищенной куртке. Такую я буду носить, когда вырасту, стану работать и у нас будут наконец деньги.
Человек весь кожаный — сапоги, штаны, даже кепка. А ружье у него черное и блестящее, с белыми металлическими штучками. Словом, охотничий пижон.
Нет, не буду носить кожаную куртку!
— Мой сын, — заявил Старик (он ужасно мной гордился). Двуротый посмотрел на меня и заговорил с отцом.
Оказалось, это он стрелял из крупнокалиберного ружья, черным порохом. (И провонял им насквозь.)
Около типа лежала дичь: коричневый глухарь, тетерева, куропатки и запретный для этого времени заяц.
Я сделал замечание, и двуротый вздернул вверх губу, показав крупные зубы. А вот нижняя его губа недвижна, отчего улыбка его какая-то цепная.
Он скалился тысячу лет. Наконец сказал:
— Во, желторотик, учит! — и повернулся к Старику. — Здесь много сохатых, советую обратить внимание.
— Редкое у вас ружье, — похвалил Старик, надев очки. — Стволы, я замечаю, дамасковые.
— Бельгийка, восьмой калибр, — хвастал двуротый. — Поднимает заряд в пятьдесят граммов. Как метлой метет! Грохнул по выводку куропаток — пятеро лапками затрясли. Но требует крупного черного пороха и гильз в семьдесят пять миллиметров. Заказываю токарям, три рубля штука.
— Могу вам указать выводок белых куропаток, а за это я вас сфотографирую. Снимок вам, снимок мне — на выставку.
— Нет уж, — ответил двуротый. — Я настрелялся, хватит.
— Мы слышали вашу канонаду.
— Я же не отказываюсь, — сказал охотник. — Поглядите-ка лучше на гильзы: таких больше на свете не найдешь. Не гильзы, а стаканы, я из них водку на охоте пью. Выпьем по гильзочке, а?
Охотник полез в сумку.
Старик отказался (он презирал выпивох), и охотник выпил сам. Сморщился, встал. Взял черное ружье, поднял вязанку дичи. И пошел скользящим шагом, словно на лыжах. Он был настоящий охотник. Не торопясь и не замедляя шаг, взошел на склон и исчез, оставив неприятное впечатление.
— Кто он? — спросил я.
— Браконьеришка, — презрительно ответил Старик. — Ну, как там наш барсук?
Мы сходили к норе. Отец подержал надкушенную луковицу и прикинул, где насторожит камеру с лампой-вспышкой, как протянет ниточку к спуску аппарата.
Обратно шли напрямую и уперлись в сухое болото с кочками и сухими камышами. Метелки его тыкались в лицо. Вспугнули уток. И Старик сказал мне: утки здесь выводились, когда была вода. И вот, по старой памяти, прилетают. (Кто мог знать, что и Старик, как те утки, позже вернется сюда?)
Надо было возвращаться прежней дорогой. Мы пошагали обратно.
…К сторожке подошли в густых сумерках. Окошко ее светилось.
Чужие? Старик велел остановиться и ждать, а сам пошел к окну.
Меня испугали неслышные движения Старика. Он двигался как тень, будто плыл в этих густеющих сумерках, взлетая потихоньку вверх.
Казалось, надо пугаться тех, кто пришел в сторожку, но испугали меня движения Старика. Вот и пойми человека!
Я подошел и тоже посмотрел: наша лампа ярко светила. Охотник, ухмыляясь своими усами, варил что-то.
Мы вошли.
— Я решил заночевать у вас, — сказал охотник. — Завтра потащусь дальше. Дайте свою тележку, а?
Он посмотрел на Старика и показал зубы.
— Где мы ее найдем? — спросил отец.
— Привезет дядька, это его сторожка. Ха-ароший мужик во всех отношениях.
Охотник засмеялся и потряс головой.
А я гордился Стариком — вот и тележку отдаст, и все, что у него ни попроси. И вообще замечательный человек, не гонит этого в шею. А мог бы — одной рукой.
Отец прилег на кровать; я сел рядом и положил на его плечо руку. Охотник варил суп.
— Дядька знатный! — пояснил охотник. — Когда с бабой ссорится, то сюда сбегает и охотится здесь. Так дадите телегу?
— Ладно, — сказал отец. — А где вы работаете?
— Есть одна шарашкина контора… Он что учудил, дьяхон-то мой? Бросил свою Жучку и хвост ей отрубил. И знаете, она озверела и охотится сама.
— Я ее видел, — сказал я. — Гнала зайца.
— Везет тебе, парень, в лотерею играй.
И позвал нас есть.
Старик достал сухари и помидоры, вынул брусок розового сала. Охотник поставил недопитую бутылку водки.
Мы сели рядом на кровати и хлебали суп, стуча ложками.
Я здорово наелся супа, помидоров и сала. Затем кипятили чай (мне пришлось сходить к ручью, и в темноте я шагнул в воду). Повесив носки у печки, я лег и слушал разговор, видел отца и охотника с его усатой улыбкой.
Печка раскалилась, охотник разделся по пояс. А утром не было ни его, ни тележки — легонькой, из дюраля, на резиновом ходу (на ней Старик возил свою тяжелую аппаратуру).
В этот день мы охотились с телеобъективом за синицами и приладили аппарат у барсучьей норы.
Вернулись в сумерках. И снова короткая ночь, утро, и опять у печки, раздувая ее, стоял на коленях отец.
В окно же, в мутное стекло, со смертной силой билась осенняя муха. Выбежав на крыльцо, я увидел сороку вместо косача.
Сорока пронзительно застрекотала, из огорода выскакнул заяц, неряшливый с виду.
Чудо! Только что огород был пустой, и вдруг заяц лениво скачет, будто никого на свете не боится.
Я заорал:
— Заяц! Заяц! Заяц!
Старик, сидя у печки, рассмеялся.
— Да ты посмотри на него!
Старик вышел из сторожки. Заяц подпрыгал к нам, сел, заморгал верхней губой. Смех!
Старик велел мне принести сухарь. Выйдя, я ахнул — Старик гладил зайцу длинные его уши.
— Трусь, — говорил он зайцу. — Живи, не трусь.
Заяц грыз сухарь, по временам вздрагивая шкурой.
Съев, поковылял прочь от нас. Уходя, одно ухо он повернул вперед, а другое назад, к нам, должно быть ожидая наших слов.
— Хороший человек живал здесь до нас, — говорил Старик. — Зайца приручил. В северных таежных избушках оставляют для других полезное — спички, хлеб, сахар, я сам ими спасался. В наших же сравнительно добрых к человеку местах, я считаю, надо оставлять после себя сделанное добро, скажем, птичьи кормушки, а?