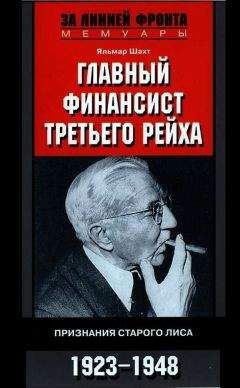Лопе идет, словно паралитик, прижимая ладонь к боку.
Мальтен выслушивает его и ухмыляется. Его серая, замшелая борода дергается взад и вперед.
— Пусть жрет поменьше. У нее сердце плавает в жиру, словно желток в яйце.
Лопе не слушает, он гладит Минку и смотрит по сторонам. Все как было, только на карнизе прибавились две банки с лягушками.
— Ты убил змею?
— Да. И у нее было полное брюхо.
— Слушай, ты мне обещал, помнишь, еще зимой, ты обещал мне рассказать одну историю, ты не забыл?
Мальтен ничего не забыл.
— Ну ладно, варево еще все равно не готово. — Он поворачивается спиной к своим котелкам и садится на край постельного сооружения.
— Собаку выпусти, не то козел заберется в виноградник.
Лопе возвращается и садится на скамеечку, что под березовым креслом Мальтена.
— Было это в стране Могурк. Жил там человек по имени Агятобар. И у него было много-много братьев. Каждый день Агятобар и его братья работали от первого крика петуха, до первого крика совы. И были они прилежны, как птицы. А когда в сумерках они возвращались домой, на их робах зияли дыры, огромные, как коровий рот, ей-же-ей, говорю я тебе — как коровий рот. И весь свой заработок они изводили на то, чтобы зашить дыры. Когда утром они выходили на работу, нигде не было ни единой дырочки, а когда к вечеру возвращались домой, опять сквозь прорехи виднелось голое тело. Настали голодные времена, братья так и бегали в дырах, потому что весь свой заработок они проедали.
А господином в той земле был Чагоб. Тот носил шелковые платья и жил во дворце. Он забирал урожай, который вырастили братья, и приказывал, что́ им надо выткать. Ему было нужно все, что они ни построят. У него было много жен и много лошадей. Когда у Чагоба была охота, он выплачивал Агятобару и его братьям их заработок. Когда же охоты не было, он ссылался на короля, которому нужно отваливать целую мерку налогов, и отпускал Агятобара и братьев по домам без всякой платы. Отпускал в нужду и в горе — вот каков он был, этот Чагоб. — Мальтен сплевывает на пол. — Однажды ночью голодному Агятобару в их каморке явилась фея. Руки у нее были как сотовый мед, а ноги — как цветочные лепестки, черт меня забодай, — такие у нее были руки и ноги. И коли память меня не подводит, платье на ней было из стеклянной пряжи. И глаза у ней сверкали, словно капли росы на солнце. Вот чудо, правда?
— Но ведь тогда ее было голую видно; раз платье из стеклянной…
— Господи Иисусе, под стеклянным платьем на ней была нижняя юбка, да что я говорю — их там было по меньшей мере две, а то и еще больше, и все юбки были черные, как печная топка. А ты небось подумал, что сквозь стеклянное платье можно было увидеть ее живот. Впрочем, ладно. Нагнулась она, стало быть, над постелью Агятобара и говорит: «Ты, верно, не признал меня, Агятобар, а я добрая фея». Агятобар сел на постели и отвечает: «Этак любая прачка может назваться феей. Лучше плюнь мне три раза в лицо, — коли останется оно сухим, тогда я и поверю, что ты фея». Вот какой он был, этот Агятобар, и фея исполнила его просьбу. Слюны у него на лице не оказалось ни вот столечко. Но Агятобар все еще сомневался. Только заснуть он уже все равно не мог, а потому и слушал ее сладкие речи до самого утра. Утром же он пообещал фее сделать все, как она велит… И фея исчезла, потому что во дворце у Чагоба закричал петух. Пора было Агятобару с братьями идти на работу. И тут — клянусь шкурой полосатой кошки — все и началось… Ох, да мое варево сейчас убежит из горшка! — Мальтен вскакивает и помешивает в горшке.
С сердечными каплями в кармане Лопе скачет вниз по холму. У него не идет из головы Агятобар с братьями. Дома за ужином он отказывается от своей порции вареной картошки. Он обойдется и без еды. Его желудок не урчит от голода, он больше не Лопе, он Агятобар. Вот только у него совсем вылетело из головы, что лавочница дала ему сдобный рожок, который из-за кислой отрыжки не смогла умять сама.
Теперь управляющий наведывается иногда в винокурню и по будням. Он играет с винокуром в «шестьдесят шесть». При этом они пьют, под конец языки у них заплетаются, и они начинают говорить друг другу — «ты».
— А-а-а десятка еще у тебя или уже вышла?
— Она давно лежит под… ик… под столом, только я не могу нагнуться за ней, не то у меня все подступит к горлу.
Жена управляющего все время одна, потому что куда ж ей идти? Жены рабочих ей не ровня. Жена смотрителя рано засыпает и нечаянно колет себя спицей в грудь.
Девушки из замковой прислуги уходят в деревню. Весна бушует у них в крови. Сперва в порыве ревности жена управляющего подслушивает под окнами винокурни, но всякий раз видит одну и ту же картину: жена винокура спит, а служанка сидит одна в своей каморке и штопает чулки. Значит, женщины здесь ни при чем.
Она придумывает всякие уловки, чтобы вечером придержать мужа дома: однажды сразу после ужина, покуда он просматривает сельскохозяйственную газету, она раздевается донага и с пожеланием спокойной ночи целует его в затылок.
— Ты что, прямо так и ляжешь? — спрашивает он, не поднимая глаз от статьи о борьбе с пыреем.
— Да, очень душно, я прямо вся вспотела.
— Ну, раз вспотела…
Он продолжает читать. Этим все и ограничивается. Она ждет, ждет, но он уходит в винокурню.
Господин конторщик постучал в стену. Вот и он, верно, опять томится от одиночества. Про свое она уже ему рассказывала. Иногда он пишет ей письма, строки которых пропитаны тоской. В этих письмах он стремится облегчить ее участь цитатами из разных поэтов. Но все его поэты — мужчины, а она — женщина. Она выскакивает из постели, набрасывает на себя ночную рубашку, подходит к окну и прокашливается.
— Это вы? — раздается шепот. В кустах посвистывает ветер.
— Да, муж мой опять ушел, а я лежу одна, как в гробу.
— О, не говорите так, тишина, — я имею в виду могильную тишину и некоторым образом также и одиночество, — можно сказать, оба они, вместе взятые, формируют нашу душу.
— Да, душу, — повторяет она вполне бодрым голосом и стягивает на груди вырез сорочки. Каждый из них висит в рамке своего окна: он — тощий и долговязый, руки, словно две белых тряпицы, возложены на подоконник, она — пухленькая и краснощекая, с серыми бусинками глаз, взгляд которых способен щекотать мужчин. Ее пальцы, толстые, как сосиски, беспокойно теребят стебли крапивы. Оба говорят о возвышенных вещах, но не встречаются. И мысли их, словно маленькие кораблики, проплывают по морской глади друг мимо друга.
— На мне одна только ночная рубашка, — говорит она, перегибаясь из окна и не закрывая вырез.
— Вы напрасно так легкомысленны, вы легко можете простудиться… Может, даже и не простудиться, но земля порой источает ночью испарения, которые не особенно хороши для тела, и прежде всего — для голого тела.
Так они общаются друг с другом. Она бросает огненные шарики кокетства, он кидает назад мягкие перья.
Лопе пришла в голову отличная мысль. В придачу к имевшемуся у него красному карандашу он получил еще один карандаш от лавочницы. Да под соломенным тюфяком его кровати уже лежат три чистых блокнота. Мать решила, что их можно носить в школу вместо тетрадей, но учитель на это сказал: «Без линеек? Ты что, рехнулся? Изволь принести настоящую тетрадь!»
И, стало быть, Лопе может записать в этот блокнот сказку, которую сам сочинил. Он идет в кусты позади своей скамьи и пишет там сказку про свинячью свадьбу:
«Жыла-была свинья, и ниправда, что у нее была сватьба. Орге Пинк сказал, это враки. А я сам видил, как одна свинья палезла на другую и бороф захрюкал. Сколько раз хрюкнит, столько будит парасят, сказал Клаус Тюдель. Его назначили свиньячьим каралем и если они не помирли так живут и посийчас. Писал Лопе Клянирман».
Он снова кладет блокнот под тюфяк, к двум остальным. На следующий вечер блокнот вместе с двумя оплеухами обрушивается на голову Лопе. Потом мать швыряет его в печку.
— Девять лет парню, а такой пакостник, это ж надо!
Она глядит на отца, тот отрывается от своих веников.
— А в кого он, по-твоему, такой, в меня, что ли? Ну уж нет, он в тебя или в…
— Помалкивай лучше! Штаны у него от тебя.
Липе некоторое время глядит на нож в своей руке, после чего молча возобновляет прерванную работу.
В полном разочаровании Лопе идет спать. Наверно, он наделал уйму ошибок. Когда он немножко подрастет и научится писать без ошибок, он сочинит сказку про мальчика, который вечно сидел на «вшивой скамье», а потом все-таки стал королем. И эту сказку он покажет Фердинанду.
Весна поднимается все выше. Весна подгоняет. И отношения между конторщиком и женой управляющего тоже не остаются на прежнем уровне. Потому что как-то раз Фердинанд все-таки подхватывает один из ее огненных мячиков.
— Я здесь просто больше не выдержу, — так говорит она однажды вечером. — Я вечно жду, а потом он заявляется и отыскивает свою постель на кухне. Он укрывается скатертью, спит на скамейке для молочных кувшинов и ласкает центрифугу.