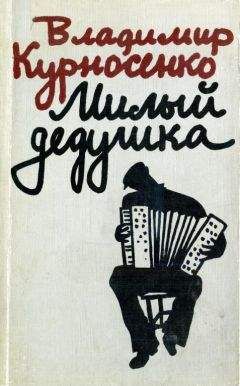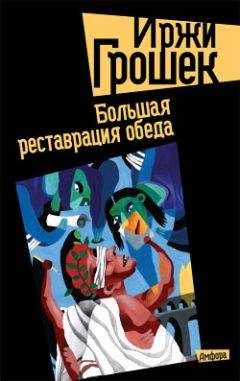Для меня-то это было пареною репой. Хорошие, плохие… Разумеется, разумеется! Мне было шестнадцать лет, я искренне верил, что в щелочки своих глаз я прямо и непосредственно гляжу на саму объективную истину. Если кто-то и видел ее другою, то это было не мое, а его личное несчастье. Не мог же я сомневаться в собственном великолепном зрении!
Пришли родители, и я обрадовался им больше, чем ожидал. Наверное, я утомился от роли хозяина, от впечатлений. Но было еще не все. Начался ужин. Когда гостей в нашем доме было немного, располагались на кухне. На кухне сели ужинать и теперь. Мама по-быстрому разогревала что-то на плите, я принес из серванта рюмки, а отец вытащил из холодильника припасенную на такой случай бутылку. Уже через десять минут стало ясно, что Кирик вовсе не такой отдельный человек в родне, как это можно было предположить. Он знал про всех наших с Украины все, что необходимо для такого вот застольного разговора. Он даже рассказал две-три смешных истории про общелюбимых родственников, сумев их при этом и не задеть и не обидеть.
Я видел, что отцу Кирик нравится.
Отец вспоминал, как они носили с дядей Акимом одни по очереди валенки в школу, как все равно все выучились боле-мене ничего, слава богу, и какая все-таки тогда была хорошая, расчудесная просто жизнь. Лошадь была.
Мама подкладывала Кирику в тарелку то и это, а он благодарно ей кивал и вновь переводил слушающий взгляд на отца.
Попробовали петь.
Ой, у лузи, та ще й пры дорози
Червона калына.
Спородыла молода дивчына
Козацкого сына.
Вона ж его та й спородыла
В зелений диброви.
Та й не дала тому козакови
Ни щастя, ни доли…
Отец, кроме самых начальных слов, больше не помнил, он лишь подвывал потом и улыбался на Кирика, и Кирику пришлось петь практически в одиночку. Голос у него оказался глуховатый, не такой красивый, как у дяди Акима, но точный и без всякой специальной старательности музыкальный. Словно он забыл, что сидит и поет песню, «исполняет» ее, и потому получалось вроде само собою и хорошо. Наверное, я подумал, Кирик любил ту песню про козаченьку. Лицо его побледнело, и глаз своих от стола он так и не поднял, пока не допел.
Не дала ему, козакови,
Ни щастя, ни доли.
Тилькы дала тому козакови
Лычко билэ, черни брови…
Отец припомнил две последние строки, и они допели их вместе, на два голоса, повторив еще раз:
Тилькы дала тому козакови
Лычко билэ, черни брови…
— Так-с! — потер руки отец, когда они закончили, и налил себе и Кирику по стопке.
Потом пели:
Плывэ човэн, воды повэн,
Та й накрывся лубом. (Три раза)
Ты не хвастай, козаченько,
Кучерявым чубом… (Три раза) —
песню, которую певали молодыми дедушка с бабушкой на пару. Отец и Кирик спели ее, тоже разделив голоса. Отец пел первым, а Кирик вторым. Конечно, это было не то, что выходило у Четверых Братьев, но все же это было прекрасно — настоящий праздник. Правда, до «Клена» дело не дошло. Отец постукал ногтем в опустевшую бутылку и сказал, что «если б было чего еще, то…». Но мама его не поддержала. Она сказала, и слава богу, что «чего еще» больше нету. А Кирик глядел на них обоих ласково и немного как бы грустно. Меня весь вечер не покидало чувство, что маленько он все-таки скучает. Что душою он и рад, но будто бы не весь, не всею душою. На другой день он уехал.
Кажется, Кирик поехал к дяде Лене на озеро Увильды.
Если б не школа, я тоже, поди, поехал бы с ним.
Утром, когда я проснулся, раскладушка, на которой спал Кирик, стояла сложенной и прислоненной к письменному столу. Тут же, на столе, лежала записка: «Женя! До свидания. Увидимся когда-нибудь, но если и нет, все равно я очень рад…» А внизу, сбоку от раскладушки, стояли рядком, раздвинув острые носы, черные бархатные туфли, в которых мог бы гулять по Фонтанке Пушкин.
Это Кирик, уезжая, сделал подарок — самый крупный из подаренных мне за жизнь.
Мне было шестнадцать лет, и меня мучили соблазны. Нет, нет, я бы не украл и не убил старуху, как Раскольников. Мне не хотелось этого, и не было в этом нужды. Но я — допустим — мог бы обмануть девушку. Нет, конкретно я не собирался пока никого обманывать (девушки не было), но вопрос ТАК ЛИ УЖ НЕОБХОДИМО БЫТЬ ЧЕЛОВЕКУ БЛАГОРОДНЫМ подвергался во мне в ту пору первой ревизии. Я мог бы обмануть свою девушку не теперь, а через год, два, три или четыре в зависимости от того, что бы я решил. Я мог бы даже не обмануть, а лишь ЗАХОТЕТЬ или РАЗРЕШИТЬ СЕБЕ ЗАХОТЕТЬ такого обмана. Или, обманув уже, убедить себя в том, что виноват не я, а жизнь, жизнь (это-де жизнь так устроена), или что бедная девушка сама желала обмануться. К тому же ни воровать, повторяю, ни убивать мне не хотелось, а стало быть, сделав пакость, я смог бы подкрепить чувство собственной, пускай пошатнувшейся, честности, и с этой всегда безусловной стороны. Хотя, мол, у меня и есть недостатки (а у кого нет?), однако я не ворую и пока что никого не убил.
Словом, я смог бы сделать так, чтобы сознание и совесть работали во мне на мое удовольствие.
И… и надо ли было иначе?
Те из меня окружающих, кто смотрел на вопрос не с одной юридической точки, решали его голым ощущением. Противно тебе что-то делать, с души воротит — не делай! Верный способ, о чем тут говорить. Однако ж не безупречный. По блату доставать противно, а куда денешься? Некуда! И какой же выход? Простой: тебя воротит, а ты держись. Делай, что надо. А если подпустить еще нечто этакое, обезоруживающее, мол, не для себя же, исключительно только для малых детушек, то и вовсе терпимо получится. И прочее. Короче, по размышлении становилось очевидно: если надо, если очень хочется — отвращение преодолевается.
Выходило, что чувство не надежно.
Нужно ЗНАТЬ.
И позднее-то я узнал. Обыкновенное, как трава у крыльца дедушкиного дома. БОЛЬШЕ ВСЕГО ХРАНИМОГО ХРАНИ СЕРДЦЕ СВОЕ, ИБО ИЗ НЕГО ИСТОЧНИКИ ЖИЗНИ. И никто никого, кроме тебя самого, никогда не обманет и не обхитрит. Потому что из него, из собственного твоего сердца, а не из пресловутых сосцов и корытец с одуряюще вкусными их запахами берется и начинается жизнь; и честные родители нужнее-таки детушкам, чем любая добытая ими копченая колбаса.
Но это все потом, потом.
А мне нужно было ТОГДА. Мне очень хотелось это знать. Дозарезу. Пусть не названным пока, но учуять, услышать хоть отголоском, отголосочком, и поверить, поверить.
Бабушки во дворе, не желая вникать в тонкую красоту моей обновы, окрестили туфли Кирика домашними тапками. «Вишь чё, домашни, што ли, тапки таки?..» Я слышал за спиною их не стесняющиеся, не жалеющие меня голоса, и мне было обидно. Но что же было делать? Мы жили далековато от мест, где ковалась тогдашняя мода. Бабушек можно было понять. В школу я тоже ходил в другой обуви. Школьная одежда туфлям Кирика была явно не под стать. Зато вечерами, отправляясь в одиночку по улицам, я надевал туфли Кирика и шел, и бродил в них, ступая бархатными носами на опавшие листья и краешки луж. Я размышлял о том и об этом и втайне думал, что я ношу туфли Кирика в его честь. Лишь через год, когда в левой подошве протерлась дыра, а правая вовсе оторвалась от бархатного верха, я эти туфли выбросил и начал носить на прогулки что-то другое, теперь уж и не упомню что.
Бежал, неловко перебрасывая ноги со скамьи на скамью; доски, покрытые инеем, скользили, на бег этот уходили последние силы, и, временами забываясь, он забывал о погоне. Нога соскользнет, просунется между лавками, он всей тяжестью навалится на нее. Он представлял себе это: нога соскользнет, боль пронижет ее до паха, хрустнет кость, он так хорошо представлял себе это, что несколько мгновений не знал: лежит ли он впрямь со сломанной ногой, беспомощный и уже погибший или бежит. Бежит! Он еще бежал! Бежал, ничего не видя перед собой, кроме трех-четырех белых от инея скамеек, и лишь порой, когда поднимал голову, впереди, у края трибуны маячил в глазах низенький зеленый заборчик, до которого он и рассчитывал добежать.
С самого начала, с первого шага он знал: его догонят. Уже догнали. Но сознавать это было так страшно, так непосильно сейчас, что, отвлекаясь, он нарочно заставлял себя думать о другом. Не поскользнуться!
Последние метры, не выдержав, он полз на четвереньках, оскальзываясь ладонями и раз или два стукнувшись щекой о мерзлое дерево. А у заборчика встал, набрал в легкие воздуху и обернулся.
Стадион пустой фарфоровой чашей белел в черноте ночи. Их не было. Не было! Они все-таки забыли про него. Он сумел, сумел их запутать!
Закинув ногу на перильце и чувствуя животом его холодную гладкость, он перевалился туда, в черное. Воздух свежил щеки, он падал, па-а-адал, и он был свободен. И когда ступни горячо ударились о жесткое, когда он повалился с размаху на бок, он вдруг совсем успокоился и чуть не рассмеялся от облегчения.