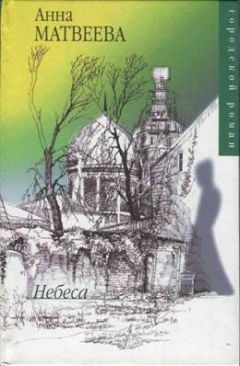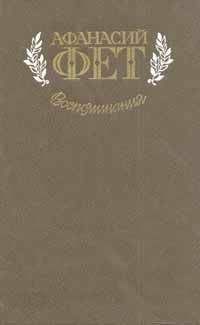У Трофимовых веровали не в Господа Бога, а в тринадцатую зарплату и водку чекушками. Многолюдная и типовая, как панельный дом, семья будущего архиерея всех своих мужчин отправляла на дымную гильотину химзавода — градообразующего предприятия, производящего как пестициды, так и медленную смерть. Слово «рак» широко хозяйствовало в здешних домах, поэтому редко кто из трудящихся добирался к пятидесяти годам живым и не изъеденным смертельной заразой. Все же сменить декорации никому не приходило в голову: умершего отца вскорости заменял пока еще здоровый сын. За вредность производства прилично доплачивали — в детстве что старшего Сашку, что Игоря, что маленькую Ленку возили в Крым вместо пионерлагеря. И поесть у них всегда было в избытке, и одеться в импортное — дефицита семьи с химзавода не знали. То есть дефицит был, но другого сорта, будущему епископу всю жизнь пришлось полной ложкой черпать последствия, к которым привела нехватка первоосновного запаса знаний…
Какую-никакую библиотеку Трофимовы, впрочем, собрали. Любая советская семья в те годы видела в книгах достойный предмет денежных сложений, а химзаводские имели льготные талоны в книжных. Вот и ставили на полочках Дрюона плечо к плечу с Лажечниковым, чтобы с Фейхтвангером соседствовал Дюма, а сразу за Пикулем менуэтом шествовали Анн и Серж Голон. Почти все книжки были девственными, никто не нарушал покой склеенных страниц, не обшаривал их жадными глазами, не вожделел свести опасно близкое знакомство. Под лесом переплетов, полкой ниже, искрился хрусталь и собирали пыль салфетки, вязанные крючком. Телевизор красовался в углу, как икона, — так было в любой квартире химзавода, так было и в доме Трофимовых.
Отец семейства, пристроив Сашку учеником в родной цех, прицельно взялся за Игоря, но тот — молчун, тихушник с детства — выдал номер почище циркового. Сказал, что в профильный техникум не пойдет, потому что уже отправил документы в духовное училище. Мать заплакала, начала комкать фартук. Старший Трофимов — заслуженный работяга, гордость цеха, мастер, не слезавший с «красной доски» — стал кричать: «Опозорил!» Слово это ударяло Игоря каждой из своих «о», тяжелых, будто выкованных из металла…
— Экая напасть, — плакала мать, — и откуда что взялось?
На этот вопрос никто не знал ответа, пока не умер сосед из квартиры напротив, тихий дедушка Илья Сергеевич. Игорь часто заходил к соседу после уроков — то помочь, то нужную книжку попросить… Родители хвалили сына — не всякий пацан станет тратить время на старика.
Старик был ученым-биологом, репрессированным и верующим. От Игоря сосед не укрыл ни одной этой подробности, и мальчик поверил вначале ему, а потом и в Бога. Илья Сергеевич сильно жалел, что не стал священником, сын его служил в православном храме в Женеве: «Если бы я мог начать все сначала, то не стал бы размениваться на науку — ее возможности, Игорек, сильно ограничены в сравнении с тем, что происходит у престола».
Илья Сергеевич подарил Игорю Евангелие и Закон Божий, а дальше Игорь все решил самостоятельно. Только на похоронах родители смогли соединить разорванные части картины — провожать Илью Сергеевича приехал настоящий поп с крестом и бородищей, а многотомные «Жития святых» и «Историю Русской церкви» по завещанию забрал себе Игорь.
С духовным училищем родители в конце концов смирились, но при первой же возможности старший Трофимов с большими надеждами проводил сына в армию. Здесь интересы Советского государства и отдельно взятого работяги слились в одну линию. Государство надеялось, что два года станут хорошим буфером для почти готового священника, а папа был уверен: суровый казарменный дух выбьет «поповскую дурь» из головы сына, и после солдатской каторги тот вернется домой не безответным христосиком, а настоящим мужчиной. Впрочем, отец с государством предполагали, но располагал, как водится, некто другой.
Многим ровесникам Игоря везло с армией — попадали в Одессу к теплым морским волнам, в оплот цивилизации — Эстонию, и даже в Москву. При всем географически-военном разнообразии страны Игорю Трофимову достались Чукотка, авиация и шестидесятиградусный мороз. Первогодки, впрочем, куда чаще страдали от дедовщины, чем от холодов — и солдату Трофимову прилетало от армейских традиций больше, чем прочим пацанам. По-городскому бледный, в очочках, Трофимов ничем не напоминал человека, способного защитить себя, и самый лютый старослужащий по фамилии Дундуков взял над первогодком-очкариком особое шефство. Раздражали Дундукова не столько очки, сколько молитвы — будущий епископ даже в казарме не скрывал веры, хотя никто не мешал ему последовать примеру осторожных людей — что крестятся стыдливо и воровато кланяются, пока никто не видит.
Прочие деды, да и «духи» к набожности Трофимова относились без восторга, но спокойно — мало ли кто от чего с ума сходит. Доставалось Игорю от старослужащих не за веру, а в силу традиций: «Как было с нами, так и мы будем». Совсем иначе вел себя Дундуков, поскольку религиозность новобранца задевала его личные принципы. Дундуков происходил из укомплектованной коммунистами семьи, и антисоветчина была для него самой омерзительной вещью в жизни. Однажды Дундуков избил ногами лучшего своего друга только за то, что друг хвастался подпиской на журнал «Америка».
Наблюдая, как щуплый первогодок в рваных кальсонах шепчет молитвы перед расписной картонкой, Дундуков кипел от политической ярости. Был он при этом неглуп и догадывался, что бить и унижать лично Трофимова — бессмысленно, поскольку тот стерпит любую боль. Дундуков расчетливо целился в иную мишень и оказывался прав — богохульства ранили Игоря куда сильнее кулаков и пряжек. Он тогда всего лишь пытался выжить, но слова Дундукова вскрывали душу в кровь…
Долготерпение очкастого «духа» привело к нежданным последствиям — если бы Трофимов орал, дрался, доказывал правоту, тогда, быть может, и обзавелся бы поддержкой. Смирение здесь почиталось слабостью, и сверх Дундукова за Игорем приглядывали теперь пятеро узбеков, почти вплотную ушагавших к дембелю. Русским языком узбеки владели скверно и выказывали отношение к православному Трофимову путем многократного битья — били все сразу, притом по голове.
Однажды утром, очнувшись от сна по майскому чукотскому морозцу, дембель Дундуков ощутил под лопаткой адскую боль — будто к коже присосалась безжалостная жирная пиявка. Неловко заглядывая в осколок зеркальца, что хранился кокетливо в тумбочке, солдат увидел между щедро рассыпанных по спине родинок гигантский алый чирей. Дундуков и прежде, и теперь имел дело лишь только с физическими страданиями, а значит, ощущал боль куда ярче, чем люди, хотя бы условно знакомые с моральными муками. «Духи» немедленно прочувствовали меру страданий дембеля: он готов был убить любого, лишь бы унять проклятую саднящую боль. Игорь подвернулся под руку Дундукову в момент, когда чирей болел беспрерывно, а спина едва ли не полностью онемела.
«Ты, попка, — простонал чирееносец, — молись своим там, чтобы чирьяк прошел. Не пройдет до завтра — убью».
Обычный человек повел бы себя иначе, но Игорь Трофимов обычным человеком не был — и после отбоя со всем усердием принялся молиться об исцелении Дундукова. «Владыко Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщвля-яй, утверждай низпадающия и возводяй низверженныя…» В притихшей казарме сливались дыхания, сопения и храпки разных мастей, на слух не отличить — кто спит, первогодок или дембель. Постанывал от боли Дундуков, на небе сонно мигали звезды, а Трофимов молился и молился, пока над казармой не появилось равнодушное северное солнце.
Наутро Дундуков проснулся в замечательном настроении, правда, в пригородах сознания гуляла позабытая, но важная мысль… Ну да, чирей! Пальцы недоверчиво ощупали кожу под лопаткой, потом потянулись за зеркальцем. Чирей сгинул, не оставив даже крошечного следа. Дембель встретился глазами с белым, как пенопласт, Трофимовым, помолчал с минуту и потом сказал, обращаясь ко всем сразу: «Этого — не трогать!»
Дундукова услышали и поняли, так что в молитве будущему епископу не препятствовал больше никто.
Служба изменила Игоря, но не так, как понравилось бы отцу: младший Трофимов стал после демобилизации еще более верующим человеком. Эти два года оставили в Сергии еще один след — он впервые почувствовал, какие сильные чувства будит в нем чужое безверие. Жалость, стремление помочь — не только тем, кто просит помощи, а тем, кто не догадывается о ней. Отчаявшийся отец устал спорить с Игорем, но, следуя путем неведомого ему Дундукова, пытался высмеять и победить Бога, который хоть не существует, зато предъявляет права на родного сына. «Дай мне свою Библию, — потребовал однажды отец, — я тебе докажу в два счета, что никаких богов нету». Игорь принес отцу Евангелие, а пока тот читал с карандашиком засаленные странички, сын молился Иоанну Предтече. Дочитав до конца, старший Трофимов принял важное личное решение.