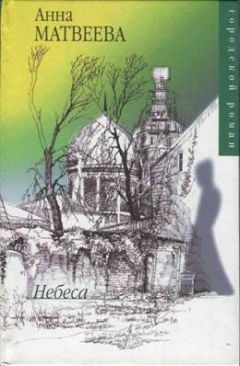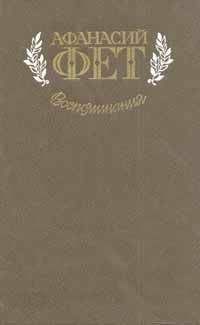Я была не против полулюкса, но разбрасываться Сашенькиными деньгами… Соня Сергеевна слегка подморозила тон после моего отказа, но продолжала выпускать на волю быстрые словечки — они шуршали и сыпались, как семечки из газетного кулька. Я молчала, пригвожденная множественными взглядами с картин.
— Для начала ограничимся телесно ориентированной терапией в сочетании с голлотропкой. Начинайте завтра с утра, подключайтесь смело к группе! Все будет хорошо, Глафира, вы в надежных руках!
— Аглая, а не Глафира. А что это за картинки у вас?
— Это работы наших пациентов перед самой выпиской — видите, в каждой прослеживается некий общий символ. Глаз — это страх больного перед высшим разумом, таким, знаете, большим братом, который вечно наблюдает за нами.
Соня Сергеевна расщебеталась не на шутку, видать, я угодила с вопросом.
— У каждого человека свои страхи, Аглая, но не каждый может в них признаться. Вот вы, например, чего боитесь?
Директриса застыла в кокетливом ожидании, навалившись опять-таки кустодиевской грудью на стол. И я сказала правду:
— Больше всего на свете я боюсь смерти.
— Своей или чужой?
— Все равно.
— Знаете, Аглаюшка, вы меня заинтересовали, я, пожалуй, возьму вас к себе в группу.
Хихикая, Соня Сергеевна вывела меня из кабинета, где пас поджидали секретарша с «анкеточкой» и Лапочкин со взволнованным взглядом.
Теперь родственники могли ехать на волю с чистой совестью.
Из окна хорошо виднелись машина Лапочкина и сам Алеша: он целовал Сашеньку в висок так долго и протяжно, словно хотел высосать мозг. Потом они уехали, подняв невысокую снежную пыль, а я потащилась в свою палату. По настоянию Лапочкина это был тот самый полулюкс, но даже раковина и туалет не спасали: пропитанная казенным духом комната смотрелась жутко и уныло. Я сразу возненавидела синтетическую штору в аляповатых цветках, облезлое бра у изголовья пружинной койки, вытертую тумбочку с безвольно повисшей на одной петле дверцей. Заляпанная неопознанной дрянью батарея жарила изо всех сил, так что ее можно было приспособить к разогреву пищи: вот только есть мне нисколечко не хотелось, а хотелось сбежать отсюда первым же автобусом…
Я курила в туалете — прокаленном, едко пахнущем хлоркой, курила, сидя на перевернутом ведре. Рядом шарашилась усатая бабка-техничка, почти с головой запакованная в серый халат.
— Больная называется! Сидит, курит! Давай отседова, на улице кури!
— Холодно там, бабушка, — отвечала я и тыкала для иллюстративности в морозную вуаль, накрепко схватившую окно.
— Ведро отдай. — Усики, похожие на колонковые кисточки для рисования, нервно подрагивали, и я встала с нагретого ведерка.
В дневное время клиника вымирала — больные прятались в палатах, как в норах, или принимали лечение. Только к девяти часам под громкие позывные телесериала главный холл наполнялся живыми людьми. Усевшись рядами, пациенты жадно следили за вымученными страданиями американских артистов, а я разглядывала пациентов, спрятавшись за псевдокоринфской колонной. На психов они не тянули: люди как люди, в халатах и спортивных костюмах, с вязаньем и кроссвордами…
Сериал смотреть было скучно, и я снова уходила в туалет: сигаретная пачка приятно тянула карман джинсов. Техничка спрятала ведро в шкафчик, но я быстро нашла его — так же легко в детстве мне удавалось найти спрятанные родителями конфеты. Укурившись до отравленного состояния, я смотрела в темное окно, где блестел тонко срезанный месяц, и потом плелась в свой жуткий полулюкс. Приходил сон, но был он тяжелым и мутным, как похмелье: мне казалось, что от подушки пахнет мокрой резиной, а может, я просто плакала во сне.
Столовая находилась в отдельном корпусе, и слово «находилась» точно описывает процесс: в ежеутренних поисках завтрака я всякий раз плутала вокруг одинаковых корпусов и всякий раз заново находила столовую, собирая ботинками снег. Зима пришла в «Рощу», как вероломный захватчик, и заняла землю, не унижаясь до ультиматумов: мело не хуже, чем в феврале. Мерзли печальные сосны, под ними спали ко всему привычные собаки, и вороны гнусно каркали на ветру.
Как все пациенты «Рощи», я приходила на завтрак с личной ложкой в руке — здесь отсутствовали любые столовые приборы. Не ровен час, кто-нибудь проткнет вилкой соседа. Или подрежет ножом свою родную вену. Тонкий кусочек хлеба, оплывшее масло, бугристая каша в заклейменной тарелке и чай, который рафинированная Эмма непременно назвала бы писей сиротки Хаси: завтрак вопиюще соответствовал больничным стандартам, но я не привередничала — ела, стараясь не смотреть, как это делают окружающие.
Пациенты «Рощи» быстро перестали казаться мне обычными людьми. Я замечала странные улыбки, сжатые кулачки, блуждающие взгляды… Многие промахивались ложкой мимо рта или роняли пищу на одежду, испачканная ткань разглядывалась внимательно и удивленно. Одна женщина вдруг закричала громко и жалобно, как ребенок, при этом она показывала пальцем себе в чай. Никого этот крик не напугал и даже не потревожил; я думала, в столовую, будто в фильме, ворвутся санитары и поволокут несчастную на инсулиновую капельницу, но нет — она успокоилась самостоятельно и через минуту пила тот самый чай без всяких жестов и криков.
Я вспоминала полубезумного братца из Питера — вот он идеально вписался бы в тутошнюю компанию! А я, почти нормальный человек, что я здесь делаю?..
И приходила покорно в спортивный зал, где в тени шведских лестниц на черных матах, пропахших пылью, пациенты переживали трансперсональный опыт. Так выражалась Соня Сергеевна, моя желтоглазая наставница. Во время тренингов она демократично переодевалась в спортивный костюм «Рибок», и все остальные здесь тоже были одеты как для соревнований по бегу на короткую дистанцию.
— У нас сегодня новый участник, — торжественно сказала Соня Сергеевна, держа меня за руку. Ладонь у нее была холодная и влажная, как брынза. — Представляю вам Аглаю, и давайте повторим наш обряд знакомства.
Все быстро выстроились в круг, потом по очереди вышагивали на середину — будто в детском «каравае» — и называли свое имя. Даже очень немолодые пациенты называли себя запросто, без отчества. Таков был Миша — полный мужчина с морщинистой и лысой, как облетевший одуванчик, головой. Наташа и Зина, подруги средних лет с уплывшими фигурами и вообще похожие, как бывают похожи друг на друга смертельно давно знакомые люди. Еще была шустрая цыганистая девушка Яна, и Павлик — молодой человек с крошечной, как у динозавра, головой. Группе явно не хватало еще одного человека для четности.
— Сядем в круг и расскажем о своих проблемах, — ласково велела Соня Сергеевна.
Я оглянулась на дверь.
— Она закрыта, — шепнула директриса и одобрительно кивнула Яне.
Яна рассказывала о своем прадедушке, который убил царя в Екатеринбурге. Плохая карма прадедушки влияла на Яну, и девушка не могла подавить в себе агрессию. Миша доверил нам подробный отчет о своих сексуальных проблемах (он не мог с теми, кого хотел, и не хотел с теми, кто мог с ним), Павлик пожаловался на одиночество, подружки, хихикая, признались в затяжной депрессии.
— Теперь ты, Аглая, — настаивала Соня Сергеевна. — Скажи нам, что ты здесь делаешь и чего ждешь от наших занятий.
— Не знаю, что я здесь делаю, но больше всего на свете хочу убраться отсюда! — честно призналась я, немного, впрочем, испугавшись выплеска откровенности. Зря беспокоилась — Соня Сергеевна (мне пришло в голову звать ее просто Эсэс) выглядела так, словно я не нахамила, а изощренным образом польстила ей.
— Подышим? — без перехода спросила Эсэс у группы, и все видимо оживились. — Аглая, я потом расскажу тебе о голлотропном дыхании, а пока просто доверься мне и дыши животом, дыши всем телом сильно и часто, как сможешь. Поняла?
При чем тут дыхание хотела спросить я. Разве так лечат человека, отравленного несчастной любовью? Мне бы хотелось поговорить с кем-то умным, а меня заставили дышать животом и фокусироваться на этом.
— Вдох сильный, выдох поспокойнее, Аглая!
Я старалась, но в конце концов бросила и начала наблюдать за другими. С ними происходили странные вещи — по мере усиления дыхания лица пациентов менялись, а тела начинали жить своей собственной жизнью, никак не связанной с его обладателем. Правнучка цареубийцы сидела рядом и, вне сомнений, переживала оргазм — сомкнуто-мучительное выражение лица сменилось таким блаженным облегчением, что мне стало стыдно на нее смотреть. Одинокий Павлик стонал, как немецкий порнографический актер, и на голубом трико расплывалось неровное темное пятно.
Я вскочила, неловко подвернув ногу: суровая боль захватила лодыжку в кольцо. Эсэс поймала мою руку: