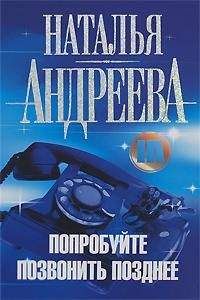Надо сказать, что они (разведенные после почти двадцати лет совместной жизни и теперь вынужденные все равно встречаться) удивлялись: как это у дочери и ее мужа получается? В том смысле, что он, то есть муж, терпит их дочь с ее разгильдяйством и бесхозяйственностью? Иногда даже вслух: другой бы давно…
Теща, расспрашивая его по телефону или после посещения их не слишком обихоженной, несколько смахивающей на общагу или, в лучшем случае, коммуналку квартиры, нет-нет да и не выдерживала: да гони ты ее, зачем тебе такая?
Тесть же, юрист, сам чрезвычайно аккуратный и деловитый, умевший себе и приготовить и постирать, глядя на замоченное уже три дня грязное белье, от которого уже начинало гниловато подванивать, горько разводил руками: дескать, что с них (то есть… представительниц слабого пола) возьмешь?
Может, потому-то нашему герою вдруг становилось за жену (и себя, впрочем) горько: если даже собственные родители – каково?
Вот именно!
Он как бы за нее обижался, ставя себя на ее место, и потому начинал ее защищать и оправдывать.
А это словно только еще больше раззадоривало сердобольных тестя с тещей, его, сироту, жалевших: ну да, повезло ей, так ценила бы! Надо же быть такой бестолковой! Расстраивались они – за него, который такой хороший, такой редкий и такой необихоженный, это при живой-то жене!
Сиротская доля!
Будто и свою вину чувствовали: как-никак – их произведение, их дочь, и такая вот распустеха – откуда что берется?..
Даже когда родители ее звонили, то предпочитали разговаривать с ним, а не с ней. Если же брала трубку она, то мать (теща) холодно бросала
"привет", даже с некоторым вызовом, а потом требовала его. Не с ней, а с ним делилась всякими-разными новостями и проблемами, советы давала по жизни или у него спрашивала, на обед или ужин приглашала, а то нежданно сама наведывалась, хотя жила далековато, – рыбу жареную привозила (он любил) или студень, который у нее получался замечательно вкусный, пирожки с капустой и с рисом или еще что-нибудь, гастрономически изысканное (кулинарный талант), тем самым как бы возмещая дефицит по части женской заботы о нем и внуке,
– хочется же наверняка чего-нибудь вкусненького, не все рассольник да извечная палочка-выручалочка – яичница.
Появляясь у них, она тут же хваталась за веник и швабру, с ворчанием и филиппиками в адрес дочери терла полы и мебель, наводя марафет и приводя помещение в санитарную норму.
О своей любви к зятю она возглашала во всеуслышание, при дочери в том числе, так что ему порой даже неловко становилось – краснел, бледнел, отшучивался и спешил ретироваться.
Тесть, человек нрава не простого и твердого, тоже предпочитал сообщаться именно с ним, хотя и в отличие от бывшей супруги (тещи) не демонстрировал этого. Да и ни к чему, поскольку и без того очевидно – все равно как демонстрация.
Это, впрочем, вовсе не означало, что дочери не любил, нет, любил и бывал очень с ней нежен. Вообще же к женщинам особых симпатий не питал, обжегшись, видимо, на первом и единственном браке (несмотря на студень и пирожки). И не так чтоб недоброжелателен к ним, однако в голосе возникала неожиданно (а он умел модулировать его не хуже какого-нибудь профи-артиста) эдакая ласковая надменная снисходительность сродни насмешке, что обидеть могла не хуже прямой инвективы: дескать, говорите, что хотите, только все равно я вам цену знаю, вы меня с толку не собьете…
"Что с них взять?.." – лучше всего выражало это отношение, что тещу, скорей всего, бесило еще в пору их супружества, да и дочь, надо сказать, порой вспыхивала не хуже матери.
Дочь отцу, рухни ее брак, было б, несомненно, жаль, а особенно, конечно, внука, для которого, как для всякого ребенка, такой распад всегда драма, хотя и зятя, сироту, ничуть не меньше, а может, даже и больше, и не в случае распада семьи, а именно теперь, в процессе совместной их жизни, безрадостной и трудной по причине нерадивости родного чада.
Согласитесь, однако: каково дочери, если ее родители смотрят больше в сторону зятя, нежели в ее сторону, проявляя к нему особое расположение. На каком-нибудь семейном застолье тесть, подвыпив, вдруг приобнимет того за плечи и шутку ласковую отпустит: дескать, так он его любит, так любит, что даже готов усыновить; теща, естественно, тоже в долгу не останется, в том же духе выскажется: дескать, в былые-молодые годы она бы его непременно на себе женила, не пропустила бы, точно…
Юмор как юмор, все понимают. А что дочь то бледная сидит, то пунцовая, потом вдруг подскочит, словно ужаленная, и – шмыг из комнаты, вроде как в кухне что-то закипело или выкипело, и долго ее затем нет, – это как?
Зять некоторое время еще с родственниками, но вскоре тоже выходит
(за пропавшей женой) и застает подругу жизни сжавшейся комочком на диване, лицо прикрыто ладонями, на вопрос же его заботливый про самочувствие отвечает неохотно и глухо, не отрывая рук, голос тусклый и отчужденный. Устала она, да, устала, имеет человек право устать? Разумеется, имеет, но что ж делать, родители есть родители, причем ее родители (он-то – сирота), так что надо к ним идти, обидятся ведь, что она ушла, будто не рада им (а она рада?).
Ну да, он, как всегда (ирония в дрожащем голосе), прав: надо идти.
Хорошо человеку быть всегда правым, хорошо, когда его любят… А глаза красные, так это все от той же усталости, ничего, пройдет.
"Ну что, отдохнула?" – Это мать (теща) опять же двусмысленно, не исключено, с насмешкой.
Не отвечает – ставит молча, с задумчивым видом на стол какое-нибудь блюдо и снова упорскивает на кухню.
"Господи, опять чашка грязная…" – тяжко вздыхает теща, брезгливо разглядывая сосуд из гостевого сервиза и губы обиженно поджимая, а задетый за живое зять (честь хозяина) срывается мыть ее чашку (а что делать – чашка-то и впрямь…).
Сцены эти повторяются раз от разу, но симпатия (не в чашке, конечно, дело) не слабеет. Можно даже сказать, что крепнет, поскольку сочувствие и даже жалость (к сироте) ей только способствуют.
Несомненно, зять достоин лучшей участи (как и внук), кто же виноват, что так все сложилось?
Они (тесть и теща) – с массой достоинств: у него большая практика и какой-то пост в адвокатской гильдии, у нее множество подруг, которые ее так любят, так любят, что все для нее готовы сделать (как и она для них), хорошие люди, короче.
Правда, семейная жизнь не задалась, но ведь слишком разные, в юности не сразу это поняли. И все равно ведь почти двадцать лет прожили, дочь вырастили, на ноги поставили. Можно бы, конечно, попробовать и дальше, тем более что дело к старости, но ведь если ничего больше не держит – что ж себя обманывать?
Иногда она вдруг начинает за столом, особенно при родителях: "Ну вот, всегда ты только себе наливаешь (чай имеется в виду), – сетует,
– нет чтоб поухаживать за женой". Или: "Ну что за человек, опять обувь на место не поставил, каждый раз одно и то же". В голосе скорбь и безнадежность.
Все слышат, да? Все поняли, как ей трудно?
Нет, это же тоска, когда человек не может поставить на место тапки или ботинки, всегда они у него вкривь и вкось, а то и посередине прихожей, не захочешь, а споткнешься. И кровать не может застелить пристойно, из-под покрывала простыня торчит, как нижнее белье из-под рубашки. Свет не выключил в ванной или туалете. Еще что-нибудь…
Правда, родители ее не особенно на это реагируют, а отец даже начинает сердиться: да хватит уже!.. Вроде как собрались по приятному поводу (день рождения, к примеру), дочь же зятя подкалывает, шпильки вставляет, не поймешь – то ли всерьез, то ли все-таки шутит, хотя шутки какие-то странные, все с обвинительным уклоном (отцу как юристу это знакомо, собственно, они с матерью это проходили, результат – налицо). Он и вправду пытается (ох уж эти… представительницы) перевести все в шутку: ага, будешь зятя обижать, увезу его… эх, куда ж его увезти? На Колыму разве?..
А зятю каково выслушивать? Сидит, улыбается, щека подергивается, или вскочит, непоседливый, посуду помыть (у жены еще два дня отмокать будет, как и белье), но видно ведь – не очень ему эти разговоры.
Уйдут родители – жена словно и не говорила ничего, присядет рядом на диване, пожалуется на мать: все той не по нраву, что она делает: и рис не так сварен, и картошка плохо почищена, с темными крапинками, и пирог подгорел (к тому же и сахару маловато), и кастрюли грязные…
Вроде как сама только что его не шпыняла.
Муж прохладно так усмехнется: и впрямь ведь не назовешь чистыми, жирноваты малость…
Поговорили.
Оба дня два потом надутые, пока само собой не рассосется – не рассеется (до конца ли?). А то, может, кто и подойдет, смирив гордыню, он или она – иначе трудно жить, вообще непонятно зачем тогда и что общего.
Худой мир лучше доброй ссоры… Да и любят они друг друга, как не любить? Он ей, можно сказать, – как брат, а она ему – как дочь, как дитя (лишь бы не плакало). Но и она ему иногда как сестра, а он ей – как дитя, как сирота (никого, кроме нее). Так тонко они друг друга чувствуют, так разнообразно.