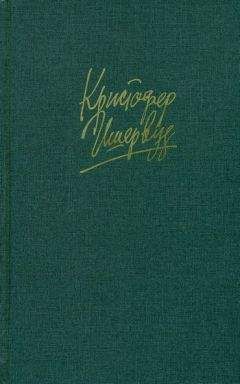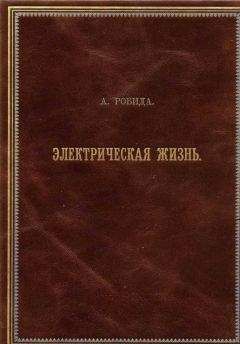После ужина Отто всякий раз идет на танцы в Курхауз или в кафе у озера. Он больше не считает нужным спрашивать у Питера разрешения, он получил право самому распоряжаться своими вечерами. Мы с Питером тоже обычно выходим в деревню. Долго стоим на молу, облокотившись на перила, и молчим, глядя на дешевую бижутерию огней Курхауза, отражающихся в темной воде; каждый погружен в свои мысли. Иногда заходим в баварское кафе, и Питер непременно напивается — его жесткий, пуританский рот слегка кривится от отвращения, когда он подносит к губам стакан. Я ничего не говорю. Слишком многое можно было бы сказать. Я знаю, что Питер провоцирует меня на колкости в адрес Отто — это принесло бы ему огромное облегчение, дало бы выход его гневу. Я этого не делаю и пью, поддерживая бесцельный разговор о книгах, концертах и пьесах. Позже, когда мы возвращаемся домой, Питер постепенно ускоряет шаг, пока мы не входим в дом — тут он покидает меня, взбегая по лестнице в свою спальню. Обычно мы приходим не раньше начала первого; Отто как правило еще нет. За железнодорожной станцией находится лагерь отдыха для детей из гамбургских трущоб. Отто знает одну учительницу оттуда, и почти каждый вечер они вместе ходят на танцы. Иногда девушка с отрядом маленьких ребятишек марширует мимо нашего дома. Дети заглядывают в окна и, увидев Отто, отпускают не по возрасту взрослые шутки. Они слегка подталкивают и дергают за руку свою учительницу, чтобы уговорить ее тоже взглянуть вверх.
Девушка застенчиво улыбается и бросает на Отто взгляд из-под ресниц, а в это время Отто, следя за ними из-за занавески, бормочет сквозь стиснутые зубы: «Сука… сука… сука…» Это приставание раздражает его. Мы то и дело сталкиваемся с детьми из лагеря, когда гуляем в лесу. Дети маршируют и поют патриотические песни пронзительными как у птиц голосами. Мы издалека слышим, как они приближаются, и быстро поворачиваем обратно. Как говорит Питер, это смахивает на капитана Крюка и крокодила из «Питера Пэна».
Питер устроил сцену, и Отто сказал своей подруге, чтобы она не проводила больше свой отряд под его окнами. Но теперь они начали купаться на нашем пляже, неподалеку от крепости. В то утро, когда это впервые случилось, Отто не сводил с них взгляда. Питер сидел погруженный в мрачное молчание.
— Что с тобой сегодня, Питер? — сказал Отто. — Почему ты на меня злишься?
— Злюсь на тебя? — Питер дико расхохотался.
— Что ж, ладно. — Отто вскочил. — Моя компания тебя не устраивает.
И, перепрыгнув через крепостной вал нашего бастиона, он пустился бежать вдоль пляжа к учительнице и ее питомцам, весьма эффектно демонстрируя свои скульптурные формы.
Вчера вечером в Курхаузе был праздничный бал. В припадке необычайного благородства Отто пообещал Питеру прийти не позже, чем без четверти час, так что Питер ждал его, читая книгу. Я не чувствовал усталости и решил закончить главу, поэтому предложил ему прийти ко мне в комнату и ждать там.
Я работал. Питер читал. Время текло медленно. Вдруг я взглянул на часы и обнаружил, что уже четверть второго. Питер задремал в кресле. Как раз в тот момент, когда я раздумывал, будить его или нет, я услышал, как Отто поднимается по лестнице. Чувствовалось, что он пьян. Не найдя никого в их комнате, он с шумом распахнул мою дверь. Питер вздрогнул.
Отто улыбаясь стоял, лениво прислонясь к дверному косяку. Отпустив мне полупьяное приветствие, он обратился к Питеру:
— Ты все это время читал?
— Да, — сказал Питер сдержанно.
— Зачем? — Отто бессмысленно улыбнулся.
— Потому что я не мог уснуть.
— Почему ты не мог уснуть?
— Ты прекрасно знаешь, — процедил Питер сквозь зубы.
Отто зевнул в своей до предела оскорбительной манере.
— Не знаю и знать не хочу… Не поднимай шума.
Питер встал.
— Свинья, — сказал он, ударив Отто по лицу ладонью. Отто не пытался защищаться. Своими яркими маленькими глазками он ужасно мстительно посмотрел на Питера.
— Отлично. — Язык у него заплетался. — Завтра я возвращаюсь в Берлин.
Он нетвердо повернулся на каблуках.
— Отто, постой, — сказал Питер. Я видел, что еще минута, и у него брызнут слезы от бессильной ярости. Он последовал за Отто на лестничную площадку.
— Ах, оставь меня в покое, — сказал Отто. — Я устал от тебя. Я хочу спать. Завтра я возвращаюсь в Берлин.
На следующее утро, однако, мир был восстановлен, хотя и дорогой ценой. Раскаянье Отто вылилось в неожиданную вспышку родственных чувств.
— Я тут наслаждаюсь жизнью и даже не вспоминаю о семье… Бедная мама должна работать как лошадь, а у нее так плохо с легкими… Давай пошлем ей денег, а, Питер? Пошлем ей пятьдесят марок…
Щедрость Отто напомнила ему о собственных нуждах. Кроме денег для фрау Новак, Питера убедили дать Отто сто восемьдесят марок на новый костюм, а также пару туфель, халат и шляпу.
В ответ на эти траты Отто предложил прекратить всякие отношения с учительницей. Как выяснилось, она все равно собиралась уезжать. После ужина мы видели, что она прогуливается возле нашего дома.
— Пусть ждет, пока не устанет, — сказал Отто. — Я не собираюсь выходить к ней.
Тогда девушка, расхрабрившись, принялась насвистывать, чем вызвала у Отто взрыв ликования. Распахнув окно, он стал отплясывать, размахивал руками и отвратительно гримасничал перед учительницей, которая, казалось, лишилась дара речи от удивления при виде этого небывалого представления.
— Убирайся отсюда! — завопил Отто. — Уходи!
Девушка повернулась и медленно пошла прочь. Трогательная ее фигурка исчезла в надвигающейся тьме.
— Мне кажется, тебе бы следовало попрощаться с ней, — сказал Питер, который мог себе позволить быть великодушным теперь, когда враг был обращен в бегство.
Но Отто не слушал его.
— На что мне сдались эти поганые девчонки? Каждый вечер надоедают мне со своими танцами… А ты знаешь, Питер, какой я — меня так легко уговорить… Конечно, с моей стороны было ужасно оставлять тебя одного, но что я мог сделать? Это они во всем виноваты, правда…
Началась новая полоса нашей жизни. Решимость Отто длилась недолго. Большую часть дня мы с Питером проводили в одиночестве. Учительница уехала, а вместе с нею у Отто пропала последняя охота купаться с нами возле крепости. Теперь он каждое утро идет на пляж у пирса, чтобы пофлиртовать и поиграть в мяч со своими вечерними партнерами по танцам. Маленький доктор тоже исчез, и мы с Питером можем свободно купаться и лентяйничать на солнце без всякой атлетики сколько душе угодно.
После ужина Отто начинает готовиться к танцам — это целый ритуал. Сидя в спальне, я слышу шаги Питера на площадке, легкие и пружинистые. Это единственное время дня, когда Питер чувствует себя вправе не обращать на Отто никакого внимания. Он стучится ко мне в дверь, и я тотчас захлопываю книгу. Я уже сходил в деревню за мятными сливками. Питер прощается с Отто с напрасной и слабой надеждой, что, может быть, хоть сегодня он наконец-то будет пунктуален.
— Итак, до половины первого…
— До часа, — торгуется Отто.
— Хорошо, — уступает Питер, — до часа. Но не опаздывай.
— Не опоздаю, Питер.
Распахнув садовую калитку, мы пересекаем дорогу по направлению к лесу, Отто машет нам с балкона. Мне нужно быть осторожным и спрятать мятные сливки под пальто, чтобы он не увидел их. Виновато хихикая и пожирая сливки, мы идем по лесной тропе в Баабе. Теперь мы все вечера проводим в Баабе. Нам нравится там больше, чем в нашей деревне. Единственная песчаная улица застроена домами с низкими крышами, стоящими среди сосен. От нее веет колониальной романтикой. Она напоминает полуразвалившееся заброшенное поселение где-нибудь в лесной глуши, куда люди приезжают взглянуть на несуществующий прииск и, не имея средств, оседают там на всю жизнь.
В маленьком ресторанчике мы едим клубнику со взбитыми сливками и беседуем с молодым официантом. Официант ненавидит Германию и жаждет уехать в Америку. «Hier ist nichts los».[13] В летний сезон у него нет ни единой свободной минуты, но зимой он не зарабатывает ни пфеннинга. Большинство парней в Баабе — нацисты. Двое из них иногда приходят в ресторан и втягивают нас в задорный политический спор. А также рассказывают нам о своих упражнениях на плацу и о военных играх.
— Вы готовитесь к войне, — негодует Питер.
В таких случаях — хоть он и не питает ни малейшего интереса к политике — он изрядно горячится.
— Извините, — встревает один из ребят, — это абсолютно неверно. Фюрер не хочет войны. Мы за честный мир. Хотя… — добавляет он мечтательно, и лицо его сияет от радости, — и война может быть замечательной. Вспомните древних греков.
— Древние греки, — возражаю я, — не использовали отравляющих газов.
Ребята презрительно выслушивают мой аргумент. Один из них торжественно возражает: