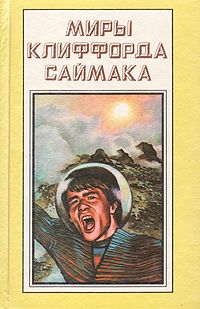Теперь, разумеется, я весь обратился в слух. Я слушал внимательно и, призвав на помощь свои музыкальные познания, узнал в исполняемом произведении знаменитую фантазию Шуберта «Скиталец»; я, конечно, мог ошибаться, но с уверенностью скажу, что пианист играл Шуберта. Во всяком случае, я не знаю другого композитора, способного наполнить такой неизбывной печалью танцевальные мотивы, которые вызывают в памяти картинки сельских идиллий, и ни у кого другого я не встречал этих пауз, сосредоточенных и вместе с тем обожженных безумием: они внезапно прерывают стремительное течение мелодии. И именно тогда, когда я стал прислушиваться к игре, музыка изменила свой характер — сначала бурная, как ураган, она вдруг стала тихой и нежной, так что мне даже пришлось покинуть холл, и, пройдя через несколько комнат, погруженных в полумрак, я пробрался поближе к фортепьяно. Ноты звали меня, сплетая свой кристально чистый, трепещущий узор на фоне густых аккордов, они вели меня, шаг за шагом, до самой последней комнаты, где за фортепьяно — оно было вплотную придвинуто к стене, а по бокам стояли два раскрашенных деревянных ангела — я наконец увидел того, кто играл.
Сомнений нет, это был тот самый юноша с фотографии, хотя, как вы понимаете, я мог различить только его профиль, поскольку застыл на пороге, не смея войти. Подбородок, лоб, нос четко вырисовывались в лиловом свете, который лился из застекленной двери в глубине комнаты. Он продолжал играть, будто не замечая моего присутствия. В конце концов я набрался смелости и на цыпочках прокрался к креслу, стоявшему у него за спиной. Вы, вероятно, сочтете меня слишком робким и осторожным, но, поверьте, мне казалось, я бесцеремонно вмешался в разговор, который юноша вел с самим собой, разговор настолько задушевный и искренний, что он не допускал присутствия посторонних, и я ушел бы, не стал бы докучать ему, если б музыка не манила к себе с такой непреодолимой силой.
Наверное, я навсегда запомню те мгновения: размеренное, неторопливое, исполненное грусти дыхание фортепьяно, а снаружи, в раме стеклянной двери, — снежные просторы, облитые лучами заходящего солнца, которое вторило музыке и ласково, бережно, с неспешностью и печалью золотило хребты гор. Все, что я видел из окна — прохожие, редкие в тот час лыжники, которые разрезали зигзагами склоны, и даже колокольня с нахлобученным на нее тяжелым куполом-луковицей, — все обретало плотность, осязаемость и небывалую яркость, казалось более насыщенным и одновременно невесомым, воздушным, словно музыка обнажала мир, сдергивала с него материальные покровы и превращала его в чистый отзвук, незамутненное отражение моего душевного настроя.
Вот так, с предельно обостренной чувствительностью, которой наделяют нас грезы, я наблюдал, как к стеклянной двери подкатил старик: он остановил свои сани прямо напротив нас. Мне уже случалось видеть этого старика, но я не обращал на него особого внимания. Он был из тех мишурных, приторно-шутовских персонажей, наряженных в некое подобие традиционного народного костюма, — в альпийских городках по выходным они бродят от одной гостиницы к другой, играют на цитре, аккордеоне, иногда на скрипке, исполненные надежды, что уважаемые гости изволят бросить несколько монет в перевернутую шляпу, а в дни праздников они волочат за собой по улицам дребезжащую шарманку. Но тогда был вторник, никакого праздника не отмечали, и я удивился, увидев старика разодетым по всем канонам ремесла, в санях, которые тащила худосочная лошаденка. Однако его появление до такой степени гармонировало с музыкой, что удивлению не было места, наоборот, происходящее казалось совершенно естественным.
Старик остановился точно напротив нас — по-моему, я уже сказал это, — вылез из саней и подошел вплотную к стеклянной двери, словно его притягивала музыка, которой, однако, он слышать никак не мог — в окнах были двойные рамы. Он стоял совсем близко, почти прижимаясь лицом к гладкой поверхности стекла, и смотрел на пианиста, а тощая лошадь за его спиной била копытами по снегу, пытаясь согреться.
Юноша продолжал играть и как будто не замечал старика; потом он вдруг остановился. Не знаю почему, но это испугало меня, у меня даже перехватило дыхание, когда он встал и медленно двинулся к стеклянной двери. Проходя мимо меня, он бросил в мою сторону виноватый взгляд, после чего, кажется, напрочь забыл о моем присутствии. Вот он стоит лицом к лицу со стариком, и только двойные рамы разделяют их. На мгновенье они замерли, вглядываясь друг в друга, и наконец старик поманил его рукой — легким, еле заметным движением рукавицы, — повернулся и побрел к саням. Не прошло и секунды, как юноша открыл дверь, шагнул в сугроб и последовал за ним.
Только теперь, глядя, как мальчик усаживается в сани рядом со стариком, я заметил, что на улице совсем стемнело; кнут, извиваясь, точно молния, разрезал морозный воздух. Сани покатились, лошадь бежала понуро, нетвердым шагом, я сидел в комнате, и мир вокруг стал постепенно, в муках обретать плоть, он вновь становился тягостно осязаемым и вещным — пробуждение ото сна порой на самом деле бывает мучительным.
Кем мог быть тот юноша? — недоумевал я. Ясно, что он не постоялец гостиницы, как я подумал сначала; с другой стороны, трудно поверить, что они со стариком просто-напросто компаньоны и он сопровождает его в скромных турне по альпийским городкам или развлекает отдыхающих игрой, достойной концертных залов. В конце концов, разве можно размениваться на мелочи и растрачивать свой талант вот так, впустую? «Скиталец», преподнесенный уставшим лыжникам в качестве десерта, — это слишком неправдоподобно, чтобы быть воспринятым всерьез. И все же: едва он заметил старика, как сразу прекратил играть, и стоило тому лишь поманить юношу рукой, он повиновался, точно приказу…
Вот, собственно, моя история, и мне нечего к ней добавить — во всяком случае, ничего такого, что могло бы вам пригодиться. Если вы напишете в отель «Альпийская роза», то, наверное, получите более подробные сведения; может быть, они найдут время ответить, несмотря на рождественские хлопоты.
После того как главный врач отправил Надин в ее мансарду, она, оставшись одна, принялась ходить взад-вперед по коридору, и испытанное недавно облегчение потихоньку уступало место тревоге, которая все разрасталась. Потом, когда ее позвали, она вернулась в комнату юноши и приготовила ему укол с успокаивающим, выполняя торопливые распоряжения врача, который то и дело бросал на нее испытующие взгляды. До самого утра она не отходила от пациента: забрезжил серый рассвет, а она по-прежнему сидела здесь, у изголовья его кровати, и на ней по-прежнему было платье из алого шелка, поверх которого она успела накинуть халат; косички расплелись и уныло свисали на лоб, на душе скребли кошки, и напрасно пыталась она унять голос совести, вспоминая о своих добрых намерениях.
Это и впрямь была не самая блестящая мысль — отвести пациента в «Красного льва». Действие лекарства начало ослабевать, и теперь он ворочался с боку на бок, метался в постели, охваченный беспокойством, прежде ему не свойственным, — в таком состоянии его видели разве что в самом начале, когда душевная рана от испытанного им нервного потрясения была еще слишком свежа, ныла и потому не давала спать спокойно. Подумать только, ведь он пошел на поправку и в последнее время выглядел не таким потерянным, как раньше, а более спокойным, уравновешенным; возможно, к нему даже вернулась бы речь, если б по ее неосторожности он вновь за один миг не погрузился в мир тоски, мрака и безысходности.
В полдень ее сменила другая медсестра — она как раз успеет переодеться и наскоро перекусить в столовой для персонала; спать даже не хотелось, давило гнетущее чувство вины, которое, стоило ей покинуть пациента, раздувалось до невероятных размеров, вместо того чтобы, наоборот, исчезнуть, и только полное самоотречение не позволяло ему расти дальше. Она вернулась к пациенту. Между тем час концерта близился, вот он наступил и в конце концов миновал, а юноша так и не нашел в себе ни сил, ни желания встать с кровати и спуститься в зимний сад, где томились в напрасном ожидании почитатели его таланта.
Все они были там, она это знала, — расселись по местам, устроились поудобнее в плетеных креслах вокруг закрытого рояля: графиня, малышка Лиза, мистер Браун — у него уже наготове листок бумаги, на котором вновь должны выстроиться колонки цифр, — миссис Дойл, напряженная, вытянутая в струнку, с деловитым видом хозяйки, матроны, она такая всегда, даже музыка не может снять с нее шелуху степенности и увлечь за собой… Розенталь, конечно, тоже там, притаился в своем уголке, и за всеми ними украдкой, но очень внимательно наблюдает главный врач — его взгляд до недавних пор казался ей добродушным, приветливым, по-отцовски благосклонным, но вчера ночью она видела, как в его глазах сверкали молнии, и взгляд был ледяным, колючим, суровым. Недавно он заходил к пациенту и почти не обмолвился с ней ни словом, только быстро пробурчал себе под нос какие-то распоряжения, а на ее вопрос, не находит ли он, что пациент идет на поправку, лишь пожал плечами.