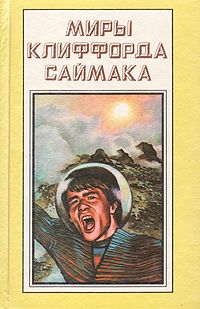Да, если уж быть до конца откровенным, игра нашего пианиста стала действовать на меня настолько сильно, что я боюсь наступления момента, когда кто-то опознает его и увезет из больницы туда, где ему следует жить. Но место, где ему следует жить, — существует ли оно вообще? Со временем я все больше убеждаюсь в иллюзорности такого дома, хотя рассудок и жизненный опыт подсказывают обратное. Каким бы абсурдным это ни показалось, но, по-моему, дом этого юноши — здесь, под высокими, запорошенными пылью стеклянными сводами зимнего сада, где старик «Стейнвей», точно ревнивая жена, каждый вечер ждет его возвращения.
Есть вещи, к которым не применима категория времени, и музыка — одна из них. Вчера, например, слушая интермеццо Брамса, я никак не мог поверить, что с того момента, когда я слышал его в последний раз, прошло больше одного дня, а между тем, представьте себе, миновало около семидесяти лет. Семьдесят лет интермеццо дремало внутри меня, все ноты до единой, готовое вновь пробудиться к жизни от прикосновения волшебной палочки или от столь же чудесного прикосновения пальцев этого мальчика. Семьдесят лет, не меньше. В последний раз я слушал его дома, играла моя мама — у нас тогда еще было старое пианино «Бехштейн», фамильное, а вдоль стен гостиной стояли мебель и всякие предметы, освященные привычным ходом домашней жизни, я и теперь помню все до мельчайших деталей: резьбу на карнизе, изогнутые ножки этажерки, даже неприметный узор на шторах, которыми были задернуты окна.
Гостиная семьи Розенталей: отец, мать, две дочки и сын, самый младший, единственный, кому было суждено вернуться из странствия в небытие. Но в моем сегодняшнем сне нас еще не успели разлучить, и вот мы все вместе: папа сидит в кресле, попыхивая трубкой, Рахиль устроилась с вязаньем подле меня на диване, Лидия на своем излюбленном месте, на подоконнике, — слушаем маму, которая играет для нас на фортепьяно, совершая одно из главных домашних таинств. Как и каждый вечер, как в каждый из тех навсегда утраченных вечеров, люстры во сне тоже погашены, и только мягкий свет бра падает на раскрытые ноты и на мамины руки, скользящие по клавиатуре; комнату обволакивает полумрак, на полках под стеклом тихо мерцают фарфоровые и серебряные безделушки.
Самая что ни есть обыкновенная, обывательская гостиная Розенталей как две капли воды похожа на другие гостиные своей изысканностью, немного, впрочем, избыточной от чрезмерного обилия деталей, и точно так же семья, собравшаяся перед ужином вокруг фортепьяно, мало чем отличается от всех прочих семей. Но в эту умиротворенность уже брошено семя беспокойства и тревожного ожидания, мама то и дело берет не ту ноту, пальцы заплетаются, неуверенно замирают над клавишами, и ее смятение передается нам. Я в растерянности оглядываю остальных и замечаю, что отец нервно вертит в руках погасшую трубку, Рахиль не попадает спицей в петлю и не провязывает ни одного ряда, а взгляд Лидии, когда ее личико показывается между задернутыми портьерами, полон ужаса, словно за окном, на улице, она увидела что-то страшное, почувствовала опасность и испуганно следит за ее приближением.
Все, включая меня, томятся этим зловещим ожиданием, и во сне неясно, чего или кого мы ждем; в дверях появляется служанка, говорит с порога, что ужин будет подан через полчаса, и ее голос, выражение лица — все выдает в ней гонца, который несет злую весть и доволен этим; я слышу, как в коридоре удаляются ее шаги, и только тогда могу снова вздохнуть свободно.
Этот короткий эпизод позволяет, кстати, довольно точно датировать происходящее во сне: мы еще держим служанку-арийку, которую по новым законам вскоре придется рассчитать, а на нашей добротной, ладно скроенной одежде нет унизительного клейма — звезды. В общем, это обыкновенный, спокойный вечер, в мире тоже все на первый взгляд спокойно, и во сне я говорю себе, что, не будь мы так запуганы, ничего бы не стряслось. Словно причиной того кошмара стал наш страх, страх притянул беду и навлек ее на нас, страх, который я читаю на лицах отца и сестер и который теперь заставляет маму ошибаться и смазывать даже самые простые пассажи.
Служанка вышла из комнаты, и потом что-то все-таки происходит. С улицы доносится шум, сначала едва уловимый, затем он становится громче — рокот то ли мотора, то ли возбужденной толпы, и этот гул растет, растет, пока наконец не заглушает звуки фортепьяно. Никто из нас не произносит ни слова, словно мы сговорились встретить то, что надвигалось, молчанием. Резким движением Лидия задергивает шторы, чтобы между ними не осталось щели, и отходит от окна; мама играет еще несколько тактов, я слышу, как музыка задыхается под уличным грохотом, теперь даже фортепьяно теряет дар речи и безропотно сдается. Никто не шевелится, мы точно окаменели в ожидании, между тем снаружи шум становится оглушительным, фигурки на полках дрожат. Детское чутье подсказывает мне искать защиты у мамы, я хочу нащупать ее взгляд и, с невероятным усилием стряхивая оцепенение и возвращаясь в свое окоченевшее тело, поворачиваюсь к фортепьяно; но бра освещает только ноты, пустой табурет и длинную безмолвную вереницу клавиш.
Как и во все предыдущие годы, больница подготовилась к Рождеству основательно, не забыв о проверенных временем традициях: омела, остролист, нарядные елки. Самым пышным убранством щеголяла елка в парке, напротив колоннады портика, так что пациенты с верхних этажей могли любоваться сквозь решетки своих окон огромной звездой, украшавшей верхушку, — ее сияние чудесным образом преображало серые декабрьские дни; чуть ниже висели яркие игрушки — золотистые и пунцовые крапинки, утопленные в хвое. Словом, у больных должно было возникнуть ощущение, что прямо у них на глазах цветет преждевременная весна, которая победит зимнюю стужу искусственной роскошью своего наряда. Зрелище наливалось красками с наступлением темноты, когда в гуще веток начинал копошиться целый рой мерцающих лампочек, и в больнице не нашлось бы никого столь черствого или замкнувшегося в своих страданиях, кто при виде этой сказочной картины не вспомнил бы собственное детство, озаренное чудом рождественской елки.
Вечером в сочельник гирлянды зажгли раньше обычного, чтобы шустрые огоньки радовали глаз гостям; и действительно, родственники и попечители, которые приехали сюда встречать Рождество, и даже посыльные, доставлявшие последние ящики с продуктами, были приятно удивлены: угрюмое, насупившееся здание больницы вдруг превратилось в праздничный, гостеприимный дом, и, казалось, тут неуместно любое упоминание о болезни. Врачи и медсестры сняли халаты и после дневного обхода появились в обычной одежде, теперь их было не отличить от пациентов и гостей, что опять-таки укрепляло иллюзию нормального, настоящего торжества. Но главное — рождественский ужин. В своей поздравительной речи главный врач подчеркнул, что этот ужин — трапеза в кругу семьи, большой, дружной, крепкой семьи, которая собралась, чтобы отметить радостное событие, и многие из присутствовавших сочли, что это сравнение с семьей, пусть оно и не так уж оригинально, вместе с пестрыми украшениями, которые скрывали постылую белизну стен, наполнило столовую уютом.
Смущение Розенталя, хмурое лицо Надин, отсутствие кое-кого из пациентов, выбравших, как нарочно, именно этот день для блуждания в дебрях своей болезни, не смогли омрачить праздника. Когда же в столовую внесли блюдо с рождественским пудингом, с пылу с жару, — повара вложили в пудинг всю свою душу и вконец обессилели, пока готовили его, — все выглядело настолько убедительно и впечатляюще, что даже на самых отъявленных скептиков снизошло умиротворение.
Немого Пианиста мягко, но настойчиво попросили спуститься в столовую и разделить трапезу вместе с остальными — если не ради самого угощения, то на худой конец ради гостей, которым не терпелось хоть одним глазком взглянуть на знаменитость. К выбору его соседей по столу подошли крайне ответственно и в итоге усадили юношу между миссис Дойл и малышкой Лизой — обе не отличались болтливостью и не докучали назойливыми разговорами; напротив расположился главный врач, он украдкой наблюдал за пациентом и, воспользовавшись паузой в беседе с попечительницей-аристократкой, то и дело подбадривал его улыбкой. Одному из врачей поручили следить за графиней Х., которая до последнего умоляла посадить ее рядом с пианистом и теперь, сосланная на другой конец стола и безутешная в этом своем горе, всячески пыталась привлечь его внимание.
Опале подверглась не только графиня: приближаться к юноше строго-настрого запретили и Надин, и та, смирившись со своей участью, глядела на него издалека, тайком от главного врача. Впрочем, подумала она, без всякого удовольствия проглотив пару ложек пудинга, хотя бы на Рождество они могли сделать исключение, не стоило так наряжаться и прихорашиваться, чтобы изнывать от тоски за самым дальним столом. Прошло всего несколько дней после жуткого разговора в кабинете главного врача, в результате которого ее разлучили с пациентом, и уже она с трудом верила, что раньше между ними были такие близкие и доверительные отношения, если, конечно, «близкими» можно назвать отношения односторонние, без всякой обратной связи. Но даже такое положение дел не в пример лучше полного отчуждения, на которое ее обрекли, не посчитавшись с ее прежними заслугами, а ведь именно она нашла юношу на пляже и целым и невредимым доставила сюда, в неблагодарные стены больницы.