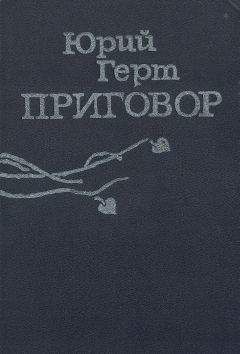— Это человек, который ничего не боится,— объяснил Виктор.— Человек, который готов на все, чтобы победить. Он себя всего должен собрать, весь должен вложиться — и тогда он добьется победы, а его победить никто не сумеет. Но в этом самая трудность — чтоб целиком вложиться...
Виктор тут же продемонстрировал, что это значит. Он принес к отцу в кабинет дощечку, крепкую и довольно толстую, один конец ладонью прижал к столешнице, другой на вершок торчал над краем стола. Федоров видел, как Виктор напрягся, его небольшое, но мускулистое тело словно набухло, палилось — и все мелко дрожало, выбрировало. Резким движением он поднял и опустил руку, рубанув по. тому месту на доске, которое перед тем прожигал сосредоточенным взглядом. Деревяшка хрустнула, разлетелась.
— Вот! — сказал Виктор.— Если хочешь — попробуй! — Федоров погладил, помял пальцами ребро его ладони — твердое, мозолистое.
— Это блатари говорят — «беспредельный человек», они своих так называют!..— У Виктора глаза горели, когда он рассказывал про своего тренера каратэ.
— Блатари — не самые лучшие на земле люди,— сказал Федоров.
— Зато — самые отчаянные! И не станут...
— Что — не станут?
— Ничего не станут.— Виктор внезапно поскучнел и тусклым взглядом провел по отцовскому кабинету, книжным полкам, машинке, накрытой чехлом...
А спустя месяца два или три знакомый журналист рассказал Федорову, что в одном из клубов была раскрыта шарашка, где не столько обучали каратэ, сколько вымогали деньги у школьников, записавшихся в секцию, а помимо того — играли в карты, пили, крутили порнофильмы... Сам же «мастер каратэ», тип с уголовным прошлым, успел организовать секции в нескольких школах.
— Это ты им помог?— спросил Виктор, ворвавшись к отцу в кабинет.
— Нет,— сказал Федоров.— Но знай я обо всем, я бы не отказался...
Ему было известно, что «заложил» каратэка его ученик, не удержавшийся от искушения испробовать приемы японской борьбы на прохожих.
Виктор был бледен, растерян.
— Дураки!..— Голос у него ломался.— Мразь!.. Потные плебеи!..
— Не знаю, что такое твой «беспредельный человек»,— сказал Федоров, убирая у Виктора со лба светлую челочку,— но что ты — беспредельный дурак, это уж точно.— И Виктор отмяк, отошел, подчиняясь, как в детстве, движению отцовской руки.
Внезапная жалость пронзила Федорова — жалость к встопорщенной, нескладной фигурке сына, не достающей до его плеча.— Ответь мне, пожалуйста, ты вот объяснял прошлый раз... Ну, а Швейцер? Лев Толстой? Эйнштейн?..— Федоров назвал еще несколько имен,— А они кто?.. По-моему, если уж говорить о «беспредельных», так в первую очередь о них...
— Может, ты и прав,—согласился Виктор вяло.— Только где они?.. Я таких вокруг что-то не вижу.— И вновь с откровенной скукой посмотрел на отца.
«Потных плебеев» Федоров пропустил тогда мимо ушей. У кого позаимствовал Виктор эти слова — у Ницше или у своего каратэка?..
17— Вот где ты...
Оп сидел, обхватив руками голову, и не слышал ни шагов, ни дверного скрипа. Он и голоса ее, казалось, не слышал,— просто почувствовал, что в комнате еще кто-то есть, и вздрогнул от неожиданности.
На пороге стояла Татьяна в длинной, чуть не до полу, ночной сорочке. Лицо, без малейших следов сна, было бледно, прозрачно, а за широкими складками тонкого, в голубых незабудках батиста не ощущалось плоти... На Федорова со спины будто дохнуло ледяным ветром, волосы у него на голове шевельнулись.
— Что ты тут делаешь?— спросила Татьяна,— И куришь, опять куришь... Хотя бы форточку отворил,— Она вздохнула и прошла к окну. В комнату хлынула ночная прохлада. Федоров ощутил, какой у него взмокший, в испарине лоб, не только лоб — виски, затылок....
— Что делаю?.. Знакомлюсь с нашим сыном...— Он кивнул на груду книг на столе. — Ты только послушай...
Она опустилась на кушетку напротив.
Он видел, как она истерзана, видел, что каждое слово из того, что он читал, причиняет ей боль. И не мог остановиться.
— Ну, что ты на это скажешь?..
Она молчала.
Федоров сдернул очки, бросил на стол. Неуклюже, все время на что-то натыкаясь прошелся по комнате, уперся в окно лбом.
— Не знаю,— сказал он, не оборачиваясь,— убил он или нет, но что мог убить — это уж точно!..
В сантиметре от его глаз было черное, льдисто блестевшее стекло. Он зажмурился. Он пытался уловить за спиной хотя бы звук — шевеление, дыхание... И снова явилось ощущение, что в комнате он один.
Тогда он вскинул голову, повернулся. Татьяна сидела на кушетке, как деревянная, не замечая прохлады, струящейся от окна.
— Ты понимаешь?..— скорее себе, чем ей, сказал Федоров.— Ведь он — чудовище!.. Мы вырастили чудовище!.. Я... Ты... Мы вырастили чудовище!..
Он ударил себя по лбу кулаком — ударил так, как если бы хотел размозжить себе голову или вбить, вколотить в свой толстый, неподатливый череп тупой гвоздь.
— Танька,— сказал он,— Танька-Танюха... Ты что-нибудь понимаешь?.. Я — нет!
Лицо его без очков, с подслеповатыми, часто мигавшими глазами выглядело беспомощным, жалким.
— Алеша,— сказала Татьяна, и было в ее голосе странное спокойствие, ровность, которые поразили его раньше.— Алеша, ты помнишь, что я сказала тебе утром в аэропорту?.. И помнишь, что ты мне ответил?.. А теперь ты готов...— Она поискала подходящее слово, но не нашла.— Он наш сын...— проговорила она тихо.
Она сидела, опустив голову, намертво сцепив на коленях руки.
— Это чудовище?.. Это не мой сын!..
— Эго наш сын,— повторила она.— Хороший он или плохой, все равно — это наш сын...
Она сделала вид, что не слышит ярости, бешенства, от которых его слова казались раскаленными добела. Или, может быть, она уже знала, чувствовала то, что ему только предстояло узнать и почувствовать. Ведь с момента, когда ей все сделалось известно, и до его возвращения прошло три дня. И, значит, она была старше, чем он, на эти три дня. На трое суток. На триста... На три тысячи лет.
1Накануне суда Федоров задремал уже под утро, и снова ему приснился тот самый сон, который видел он в самолете — будто бы стоит он на автобусной остановке и читает объявление:
Меняю свою судьбу на вашуНо теперь этот сон не показался ему ни нелепым, ни странным. И потом, когда они с Татьяной дожидались автобуса, чтобы ехать в суд, он подумал, что среди множества людей, которые толпились вокруг (был разгар часа пик), не нашлось бы никого, кто согласился бы поменяться с ним своей судьбой.
2В здании горсуда, где должно было слушаться дело, начался капитальный ремонт, и судебное заседание перенесли бог знает куда, на окраину города. Не исключено, что такое решение диктовалось еще и осторожностью: не хотели привлекать к процессу излишнее внимание, в частности — будоражить и без того наэлектризованных школьников. Как бы там ни было, чтобы добраться до места, Федорову следовало вызвать служебную машину или взять такси. Если не ради себя, то ради Татьяны... Но он этого не сделал. Он бы и сам не ответил — почему.
Вместо этого в девятом часу они вышли из дома (Ленку на все лето увезла бабушка, живущая в Подмосковье), она — в строгом, глухом платье пепельного цвета, он — в не по сезону темном костюме. Накрапывал дождь, мелкий, неуверенный, готовый вот-вот оборваться. Что и случилось, едва они пересекли огромный, еще пустоватый двор и вышли к остановке. Федоров подумал: дождь, пускай и короткий,— к добру... И сам удивился — до того всерьез, с какой-то упрямой, тупой надеждой он об этом подумал. «К добру...» К какому «добру»?.. После бессонной ночи голова была тяжелой, чугунной. И мысли в ней — тяжелые, неуклюжие — катились и состукивались, как чугунные шары. Впрочем, он заметил, что и Татьяна, с посветлевшим на миг лицом, вскинула голову и посмотрела на серое, в белесой мути небо.
По пути к остановке они не обменялись ни словом. За последнее время отношения между ними напряглись, они перестали понимать друг друга... Но в то утро, казалось Федорову, они, как прежде, понимали один другого без слов.
И они прошли через двор, прошли мимо стоянки такси и теперь стояли в растянувшейся вдоль тротуара толпе. Федоровы прожили здесь немало лет, и на улице, стоило выйти, им каждый раз встречалось одно-два знакомых лица. Но не сегодня. Сегодня вокруг не было никого, кому бы он мог кивнуть, улыбнуться. Однако чувство у Федорова было такое, словно все их знают. И знают, куда, по какому случаю они едут. И только прикидываются, будто каждый поглощен собой, заботами наступившего дня ...
Он знал, что Татьяна чувствует примерно то же.
Так они стояли — женщина с неживыми, замороженными глазами и рядом, придерживая ее за локоть, мужчина с угрюмым лицом, стояли посреди напряженной, штурмующей каждый автобус толпы, где никому до них не было дела, по им казалось, что стоят они посреди пылающего костра...