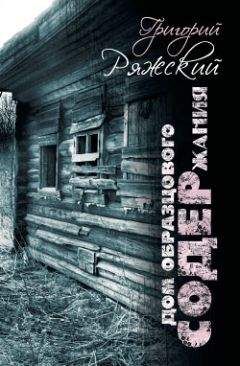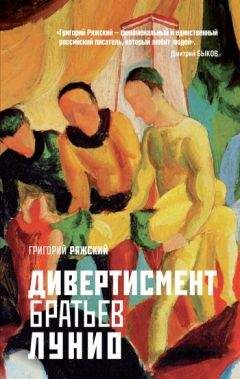Он довибрировал пару-другую секунд, не больше, и замер, снова прикрыв глаза. Зина в недоумении слезла с брюха Мирского, пытаясь сообразить, чего это старик учудил, почему не прервал любовь на главном месте, как поступал обычно, марая постель все одиннадцать лет ее послушания. А тот, наконец, окончательно открыл глаза, натянул на прежнее место спущенное до колен белье и успокоил домработницу:
– Не тревожься, милочка, все у нас в порядке, – он приподнял с кровати свое небольшое тело и почти развеселился, слезая на паркет. – Так мне проще теперь даже, – сообщил Семен Львович, – доктора не против и сам не возражаю. – С нежностью, к которой Зина не привыкла, академик чмокнул ее в щеку и добавил совершенно искренне: – Спасибо, солнышко, ты у меня палочка-выручалочка всегда, – и не спеша двинулся к лестнице наверх. Перед тем как поставить тапок на нижнюю ступеньку, бросил, не оборачиваясь: – Роза придет, какао сооруди, с мацой, и молочка не забудь, топленого. Натопила? – и зашаркал к себе.
В том, как надо было понимать это «не тревожься», Зина разбираться не стала, а прямиком направилась в ванную, вымывать следы дурного хозяйского наскока. Но дойти не успела, вернулась Роза Марковна и попросила согреть чай.
– Семен Львович какао наказал, – ответила она, – с мацой и топленкой.
– Ну и славно, милая, – согласилась Роза Марковна. – Какао – даже лучше будет, чем чай.
Месячные у Зины прекратились в положенный срок, если считать, что причиной тому явилось не простудное недомогание или же другая неприятность по женской линии, а тот самый дневной случай с Семеном Львовичем. Однако поняла она это гораздо позднее, чем следовало понять, потому что спасительное время целиком ушло на обмозговывание неглавных причин и преодоление второстепенных сомнений по поводу целесообразности визита к женскому врачу. Ясность внесла тошнота и усиленный аппетит. В женскую консультацию Зинаида решила не соваться – и так понятно все, от чего весь этот ужас на нее надвинулся, в смысле, от кого. И тогда она решилась…
Семен Львович очень расстроился, чрезвычайно расстроился. Но не потому, однако, что Зина станет матерью, как и должно быть у честных женщин, а оттого, что пригрел в доме змею, ничтожную подлую аспиду, которая посмела одним расчетливым махом перечеркнуть все, что Мирские сделали для нее в жизни: найдя, пригрев, дав работу и кров, заботясь и помня о ней постоянно.
– Как ты посмела, Зина? – кричал ей в лицо академик, убедившись, что они дома одни. – Как же ты можешь мне такое говорить? Лгать в лицо? Ты же как дочь мне была, как… – он с трудом подыскивал нужное слово, но не нашел и выкрикнул, – как самое родное существо!
Зина слушала, но не робела отчего-то, понимая, что Мирский подло защищается от нее, прекрасно сознавая правду и укрывая собственную вину. Даже если это оплошность, то его, прежде всего, а не ее, не Зины. И от этого ей не было уже так страшно, как, она думала, будет. И она решила тоже ответить хозяину тоже по правде, но уже по своей, чтоб было понятней.
– Не родное, Семен Львович, а проститутка по вашему желанию и без денег от вас – вот кто я была такое, а не существо.
Старик присел и на минуту умолк. Это было потрясение, какого он не ждал никогда. В том смысле, что не мог ожидать от забитой девчонки, вызревшей на его глазах, у его заботливого причала в некрасивую тихую женщину, привыкшую подавать голос лишь в ответ на другой голос, хозяйский.
– Гадина… – тихо на этот раз, без высоконотных эмоций произнес Семен Львович. – Гадина и шалава, больше ничего, – он уставился на нее, но глядел насквозь, не задерживаясь на лице, потому что ему было так искренне жаль, что на его глазах рушится выстроенный привычный уклад, коверкалась такая удобная, благолепная и разложенная по аккуратным полочкам домашняя жизнь, налаженная четырнадцатью годами согласия и робкого подчинения. Он вздохнул, укоризненно покачал головой и вывалил джокера, что хранил за пазухой: – Не мой ребенок у тебя, Зина, – отчетливо произнес Мирский, – не от меня. И ты сама хорошо это знаешь.
Так произнес, что если бы Зина могла предположить любой другой вариант, какой бы натворила по случайности, она сразу бы поверила. Но кроме имевшейся постоянности, никакой другой случайности в ее жизни не было и быть не могло. И от этого ее заколотило еще сильней, от двойной такой неправды. А двуличный хозяин язвительно добил еще и другими словами:
– Не мог у тебя плод мой быть, я же говорил, а ты не услышала. Операцию я перенес, девочка, операцию по удалению семенника, а заодно и канальчика, откуда дети берутся. Ясно тебе?
Ничего такого Зина не понимала, кроме одного – обрюхатил ее Семен Львович зачем-то после стольких лет воздержания от этих дел, замыслив это и сделав преднамеренно, а теперь выворачивается, тоже неизвестно зачем, если сам и решил. Тут же она снова подумала о Розе Марковне, и снова ничего не сходилось, и снова не могла она понять, для чего такая затея против нее или, если по-другому взглянуть, против законной супруги Розы, которую, Зина знала наверняка, он сильно любил и обожал.
– Я не шалава, – ответила она и изо всех сил сжала веки.
Оттуда, из-под век, давно уже лилось и падало на пол мокрое, собираясь в небольшую лужицу. Мокрое расползалось, словно состояло не из слез, а из пролитого на пол недопитого жидкого чая, и тогда Зина, не умея преодолеть привычку, нагнулась над влагой, достала платок и промокнула оставшиеся следы своего пребывания в этом доме, в этом высококультурном доме в Трехпрудном переулке, где поселились такие необычные люди. И самыми необычными и особенно добрыми из них были ее хозяева, Мирские: он, она и сын их, Боренька.
В том, что эта влажная уборка будет последней, сомнений не оставалось. Другое было неясным – за что с ней такое сделано и по какой причине? Не сказав больше ни слова, она развернулась и вышла из кабинета академика Мирского, решив дожидаться другого дня, чтобы ночью обдумать в последний раз, почему она шалава, хозяин ее – подлый человек и куда теперь ей надо уходить.
Всю оставшуюся часть дня Зина провела у себя, почти не выходя из прикухонной кельи, сославшись на головную боль. Ночь не спала, обдумывая новую в ее жизни роль последних событий, и к утру решила, что если не получается иначе, то справедливей будет так.
Дождавшись, пока останется дома одна, она набрала известный ей номер. Там ей ответили, а, ответив, сразу соединили. Глеб Иваныч, которого она попросила о встрече, крайне удивился, но поговорить с осведомителем не отказался, хоть и держал этот свой источник за «ряженый», несерьезный, давным-давно на всякий случай припасенный про запас. Короткие встречи их, организуемые иногда в силу формальных причин, потеряли для Глеба актуальность с момента перехода простого соседства в неформальные межсемейные отношения, почти в дружбу, и надобность в них практически отпала. По крайней мере, так хотелось видеть ситуацию старшему майору.
Он тормознул у песьего лужка, где Зина уже его ждала. Там, как всегда, она забралась в черную машину и сразу без всякой подготовки перешла к докладу:
– Глеб Иваныч, я слышала, как Семен Львович говорил, что дом на Лубянке сделан как у фашистов.
Чапайкин, если б не находился уже в сидячем положении, то обязательно бы присел. Удивление его было искренним, совершенно не чекистским, а, скорее, добрососедским.
– Зинаид, ты это серьезно? – надеясь на шутливое начало неплановой встречи, спросил он. – Ничего не попутала? – и глянул на часы.
Зина не ответила и не приняла смешливый тон Глеба, а очень серьезно повторила:
– Послушайте, Глеб Иваныч. Вы сами мне наказывали тогда быть ушами, если чего, и глазами. Помните?
– Ну, допустим, – отреагировал особист и частично убрал улыбку с лица. – И что?
– А то самое, – не собиралась сдаваться Зина, – на прошлой неделе Саакянц у него был, наверху, в кабинете, который тоже проектант по новому Дворцу, что они готовят вместе к постройке, слыхали?
– Продолжай, – кивнул Чапайкин.
– Я убиралась, а он орал на него.
– Кто на кого? – не понял Глеб.
– Семен Львович на Саакянца. Кричал, что не будет у них на Дворце таких карнизов, как на Лубянке, что они как у фашистов там сделаны, как у Гитлера, и цвет, мол, дурацкий и вид. И про филенки какие-то говорил еще, что тоже говняные, какие делать не надо, и какие там тоже есть.
– Так и сказал? – поднял глаза Глеб и пристально посмотрел на домработницу. – Такое именно слово и произнес?
– Такое, – не смутилась Зина, – врать не буду, так и сказал. – Говняные, говорит, филенки, немчурские, с тяжелым заходом.
Глеб задумался. Помолчав, взял Зинину руку, прижал сверху своей ладонью и произнес задумчиво:
– Вот что, Зина. Не знаю, что у вас там с Семеном Львовичем вышло и почему ты вдруг решила его погубить, но одно тебе должен сказать. Угомонись, не усердствуй там, где ничего не понимаешь. Глупость натворить очень просто, поверь мне, а расхлебать обратно – жизнь вся уйдет. – Он снова изучающе заглянул в ее глаза и уже строго добавил: – В общем, так, Зинаида, разговора этого не было, потому что никому он не нужен: самой тебе не нужен и Семену Львовичу тем более. Я уж не говорю об остальных, сама понимаешь, не маленькая, – он поменял ноги местами, перекинув их наоборот, и потер шею со стороны спины. – Обиду свою забудь, выкинь из головы, рассосется после сама, а про что ты мне рассказала – это пустое, неважное, нет здесь причины Мирского обвинять. Такая у него работа, ясно?