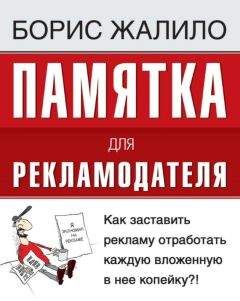Так вот, Галина Васильевна осторожно установила шапочку на полочку и повернулась к заведующей отделением:
— Зоя Александровна, я пойду? Я все сделала. А ты посмотри, пожалуйста, Ручкину в моей палате, первая слева. Она в общежитии живет. Я б ее еще подержала денек, но она настаивает, очень просит.
— Сколько дней?
— Завтра семь. Кровь нормальная. Температура вчера тридцать семь и два. Утром норма. Очень домой просится.
— Ладно. Посмотрю. Ты сейчас куда?
— В магазин сначала. Потом к приятельнице обещала заглянуть. Часа через два буду дома. А ты?
— Я поторчу здесь немного, посмотрю еще кое-кого из больных. У меня теннис сегодня. А уж в магазин после зайду.
У подъезда корпуса остановилась машина, из нее выскочил мужчина лет сорока с лишком, хлопнул дверцей и, не заперев ее, бросился прямо к Галине Васильевне, словно они встретились здесь не случайно, а заранее сговорившись.
— Доктор, бога ради, извините меня! Как удачно, что я вас все-таки успел застать…
— Кому удачно?
— Да. Конечно, конечно. Я понимаю… У вас планы, вы куда-то спешите… Видите ли, три недели назад из вашей палаты выписался больной, мой товарищ, Морев Тит Семенович. Помните?
— Помню. Прободная язва. Резекцию сделали. Ну и что? Он долго пролежал у нас. Уже ничего плохого быть не может. Не должно быть.
— Да, да. Наверное. У него вчера поднялась температура — тридцать семь и один, рвота была. Я просто спросить хотел — что бы это могло быть, а? Он ведь один лежит. Я к нему по-приятельски заехал.
— Как я могу сказать. Я ж не видела его с тех пор. Раз температура после операции, значит, срочно везите к нам. Посмотрим.
— Доктор. Извините меня, бога ради. А если я вас сейчас отвезу к нему? Одну минутку лишь, доктор. Туда и обратно…
— Обратно не надо…
— Куда хотите… У меня машина. Через пять минут мы будем у него. А потом куда вам надо. Пожалуйста, доктор?
Галина Васильевна стала вспоминать.
Чуть полноват, несмотря на язву. Чуть лысеет уже. Волосы прямые, вперед, не брюнет, не блондин — нечто среднее. В очках. Обходительный. Улыбчивый. Не зануда. Вроде бы не зануда, во всяком случае, говорить с ним было легко, даже в первые дни после операции. Работает то ли где-то редактором, то ли ученым редактором. Кажется, гуманитарий, впрочем, и это не точно. Не уверена она была. Еще когда он лежал у них в больнице, хотела спросить, откуда такое имя у него, да постеснялась.
— Лучше же в больницу. Можно понаблюдать, сделать анализы или чего-нибудь еще — что понадобится.
— Доктор! Дорогой, простите мне, бога ради, мою настырность, но ведь пять минут отсюда. Я его хотел сразу привезти, а он говорит: «Моего доктора уже нет, и я не поеду. Она, — говорит, — меня оперировала». Это так мне повезло, что я вас поймал и узнал, я ж вас один только раз видел. Так повезло…
— Кому?
— Ну да, ну да…
Галина Васильевна подумала, что от такого многословия ей все равно никуда не сбежать. Если пять минут, то действительно проще и быстрее съездить, чем час препираться. Зато он и отвезет потом куда надо. Андрюша сегодня придет позже — он в Доме пионеров, в каком-то кружке, Володя и вовсе неизвестно когда придет. Во всяком случае, известно, что поздно.
Галина Васильевна все прикинула и согласилась.
Как и было обещано, дорога длилась всего пять минут или около того. Ее спутник, водитель, похититель, в любом качестве его можно было сейчас воспринимать, в поездке был столь же многоречив, как и при уговорах. Он рассказывал про Тита Семеновича, про его жизнь, про его болезнь. Про последний кинофильм, который он, Геннадий Викторович (заодно и представиться ухитрился), вчера посмотрел. Он сыпал воспоминания, тут же и мнение свое об этом фильме, и обобщающее отношение к подобным творениям искусства — фильмам ужасов, что, вообще-то он не любит подобные страсти, подобные фильмы, что они не обостряют работу его нервной системы, не обостряют его переживания, а, наоборот, принижают его страсти, принижают его личность, показывают ему, Геннадию Викторовичу, его ничтожество, — его слабости, ставят его на место…
Наверное, еще о многом мог бы он поговорить, но машина уже остановилась у подъезда посередине длинного дома. Выходя, Галина Васильевна прикидывала, всегда ли он столь разговорчив и болтлив или просто старался развлечь, как бы извиняясь за неожиданное вторжение в ее планы. Или хотел отвлечь от этих планов беспрерывным потоком звуков, забивающих ее уши, чтобы она не передумала, не отказалась от поездки, которой он, по-видимому, очень гордился, демонстрируя, прежде всего себе самому, свою напористость, реактивность, пробивную способность.
Его активность, как часто бывает с деятельными людьми, затуманивала мышление: ведь ясно, что раз она, Галина Васильевна, дала согласие, то уж, естественно, на попятный не пойдет, как и любой нормальный доктор да и вообще интеллигентный человек.
Лифт был один, вместо двух, как должно быть в домах, где больше шести этажей, — отметила про себя Галина Васильевна и подумала, что при какой-нибудь неисправности или ремонте человеку после операции дорога в дом если и не отрезана, то, во всяком случае, крайне затруднена.
В лифте Геннадий Викторович молчал. По-видимому, считал, что миссию выполнил полностью и уже ничто не заставит доктора свернуть с проложенного им пути к больному товарищу. Доктор теперь наверняка не раздумает, не уедет.
Дверь открыл Тит Семенович сам.
Выглядел он неплохо. Веса своего еще явно не набрал, но это, пожалуй, его только украшало. Одет он был в джинсы и серый свитер.
— Ох, Галина Васильевна! Все-таки он нас привез?! Совершенно ни к чему это…
— Очень гостеприимно…
— Да нет! Очень рад. По другому бы поводу. Я ж говорил тебе — все это совершенно ни к чему. Чужим жаром делаешь свои руки добрыми…
— Вы уж его не ругайте — мы прекрасно провели время в дороге, прекрасно беседовали. А то и мне как-то неловко.
— Да это мне неловко, Галина Васильевна! Устроил панику. Вам-то огромное спасибо! Но, по-моему, я просто отравился вчера чем-то, съел что-то неосмотрительно.
И действительно, перенесенная только что операция не изменила укоренившихся привычек одинокого мужчины — чересчур долго хранить в холодильнике закупленную впрок еду. Короче говоря, обычное отравление, которое к тому же еще и прошло.
Приветливость, благодарность, улыбчивость Тита Семеновича были столь непринужденны и естественны, что у Галины Васильевны не возникло никакого раздражения.
Когда осмотр закончился и стало несомненным отсутствие страшных и даже нестрашных хирургических осложнений, Тит Семенович, вполне по-здоровому, спрыгнул со своей широкой, можно сказать, почти трехспальной кровати, и предложил выпить кофе.
Все-таки настроение его явно изменилось к лучшему. Теперь стало видно, что, несмотря на браваду, несмотря на очень облегченное и, пожалуй, игривое описание своих вчерашних недугов, он на самом-то деле весьма боялся именно хирургических осложнений. Галина Васильевна если и не возродила его к жизни, то, во всяком случае, повысила тягу к жизненным проявлениям в виде бытовых подвигов — в результате и возникло предложение выпить кофе.
Они встали по обе стороны поля, называемого кроватью. Гадина Васильевна по достоинству оценила про себя гипертрофированно широкую кровать для одинокого мужчины и решила, что, возможно, подобный излишний изыск и есть орудие борьбы с внутренним комплексом одиночества.
Тит Семенович еще раз и, пожалуй, более изощренно повторил приглашение:
— Так, Галина Васильевна, прошу вас, пожалуйста… не побрезгуйте холостяцким кофейком.
Кухня была большая. Геннадий Викторович сидел за громадным столом и пил кофе.
— Вот не думала никогда, что у одинокого мужчины может быть такое количество красивеньких кастрюлек, чайничков, коробочек, баночек.
— А я люблю игрушки. Из всех поездок что-нибудь да привезу.
Так и не дождавшись согласия, Тит Семенович поставил на огонь кофеварку, приготовленную, вероятно, Геннадием.
Оба мужчины выглядели на кухне совсем по-иному, чем в комнатах, больнице, на улице. Место вообще очень влияет на человека. И наверное, не только на вид. Москвичи и ленинградцы, например, весьма различны — по разговору, по поведению, а то и по мышлению. А переехал в Саратов — и опять другим обернулся. В Москве влияет и старая криволинейность, теплота бывших деревянных переулков, будто они по сей день присутствуют и диктуют свои условия жизни, влияет и прямолинейная одинаковость нового, и асфальтовая покоробленность почвы под ногами. Ленинград порождает в человеке что-то иное чуть холодноватой каменной вычурностью, меньшими просторами и более могучей рекой. А Саратов меняет человека природой, пылью и уж совсем громадной рекой. И неизвестно, как меняет, в какую сторону, хуже ли делает, лучше ли, — но меняет. Так же… Пусть не так же, по иному, но меняет и улица, дом, контора… Или спальня, холл, кабинет. Наверное, отправь Тита Семеновича на Луну — вот уж изменился бы. А уж на кухне — он был совсем неузнаваем.