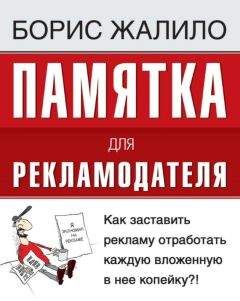— А может, немножко коньячку, Галина Васильевна? А?
— Нет, нет, Тит Семенович, мне уже надо идти. Еще в магазин нужно. Я ведь не только доктор, я еще и мать семейства — сын и муж.
— От мужа и сына отрывать не смеем, но все же еще есть время. Сколько вашему сыну?
— Тринадцать.
— Хо! Взрослый парень. У меня тоже сын — он с матерью живет. В тринадцать лет он был абсолютно самостоятельным.
Нескольких слов было достаточно, чтобы за это время кофеварка успела зашипеть, зашуметь, как бы приглашая общество к продолжению беседы за столом. Тит Семенович быстро разлил кофе. На столе стояли сахар, банка со сгущенным молоком, сухарики домашние, наверное, чей-то подарок болеющему хозяину — маловероятно, чтоб Тит Семенович занимался еще и печением.
Галина Васильевна села к столу, а Тит Семенович открыл шкафчик и поставил на стол две бутылки: армянский коньяк «Ани» и красивый разноцветный сосуд фирмы «Боле» — «Шерри-Бренди».
«Ани» сейчас, очевидно, всюду появился, — подумала Галина Васильевна. — Нашим мужикам в эти дни все время больные несут этот коньяк. Вот и у него тоже.
— А «Шерри-Бренди» — это очень вкусно…
— Может, соблазнитесь, Галина Васильевна?
— Коньяк, безусловно, нет, но вот от «Шерри-Бренди» отказаться сил нет.
— Ну вот и прекрасно. А мне под наблюдением оперировавшего хирурга можно отведать коньячку? Ну самую малость?..
— Немножко вам можно и без хирургов. Вот только вчерашнее отравление?.. Впрочем, дезинфекция…
Все были довольны. Хозяин налил доктору ликер, себе коньяк, а…
— Гена, может, чуть-чуть, символически?..
— На такси я и сам могу отвезти, Геночка. Твоя машина закончилась. Тебе остается лишь пить да есть. А скоро, наверное, Галина Васильевна разрешит мне и самому сесть за руль.
— Нет, нет. Спасибо большое, дорогие больные и здоровые, но я не могу, у меня дела: магазин, семья и всякое прочее. А за руль уже можно.
— Галина Васильевна, тогда разрешите зарезервировать возможность обеда на будущее? Прошу вас? Обед за мной.
— Решим еще.
— По крайней мере, разрешите ли вы мне позвонить вам?
— Конечно. У вас телефон есть мой?
— Больничный.
— Ну и хорошо.
Все стали одеваться. Тит Семенович тоже решил проводить доктора и заодно, если доктор не возражает, прокатиться, подышать воздухом.
В коридоре стояли стеллажи. Галина Васильевна поравнялась глазами с корешком книги:
— Г. Маркес. Сто лет одиночества, — вслух прочла она. — Мне очень хвалили этот роман.
— Возьмите почитайте. Конечно, было бы куртуазнее подарить вам ее, но я крайне, бессовестно жаден на книги. Поэтому обязуюсь достать ее вам. А пока почитайте. И причина будет позвонить — книжку забрать. К нашему будущему обеду прочтете?
— Смотря когда будет обед.
— Все. Заметано. Беру свои слова обратно. Вдруг завтра. А книга будет следующим поводом встречи, Обед — первая причина. Книга — второй повод.
* * *
Ну, а дома, конечно, еще никого.
Все принесенное из магазина надо было разложить по заведенным для каждого продукта местам: что в холодильник, что на балкон, что в шкаф, а что и сразу пустить в работу.
Исполнив главное на кухне, зарядивши всю аппаратуру: кастрюли, конфорки, духовку, — Галина Васильевна перешла, в комнаты, обмахивая и стирая мягкой фланелевой тряпкой пыль.
Она не любила полированную мебель, но просто купить необходимое тогда было нельзя, и помогали в этом трудном деле добычи дефицита какие-то знакомые какого-то бывшего больного. Ее с мужем провели куда-то в зады магазина и показали оставленное для них с таким горделивым самодовольством, что они посовестились высказать свои вкусы, постеснялись сказать про свою нелюбовь к столь вожделенной и недоступной для многих полировке. А уж после того как мебель привезли, да еще с тем же горделивым и явным доброжелательством помогли расставить ее, пусть на этот раз и в соответствии с желаниями хозяев, нечего было и думать о перемене.
Так же не любила она и книжные полки, закрытые стеклами. Но Владимир Павлович считал, что книги, даже если их и немного, необходимо прятать за стекла из-за пыли. И сколько хозяйка дома ни пыталась лишить полки этой сверкающей защиты, — и прямой атакой на них, и косвенными подходами и шутками, говоря, что открытые книги берут всю пыль на себя, а в противном случае она висит в воздухе и ею приходится дышать, — муж, при активном содействии сына, которому стекла нужны были для целой выставки открыток каких-то и фотографий, был непреклонен. И Галине Васильевне приходилось следить, протирать и наводить порядок как на стеклах, так и за ними.
В результате ежедневно после работы она, поддерживая блеск полировки и получая очередные сверкающие удары по глазам от стекол с полок, добавляла горючее своему раздражению, направленному пока лишь внутрь, поскольку не осознавала никакой прямой причины, которую хотелось бы сокрушить энергией, рождающейся от этого постоянного взаимодействия благополучия и недовольства.
Сегодня раздражения было больше, чем всегда. Если обычно она лишь мимоходом и внутренне иронизируя над своими мужчинами думала об этом, то сегодня каждая протираемая поверхность, каждый зайчик от стекла, попадающий в глаза, вызывал новую яростную волну.
Эх, мой дом — моя крепость; можно спрятаться, а можно и спрятать. Можно скрыться, скрывать, скрываться… Можно себя, тебя, от них, их не видеть, тебя чтоб не видели… А от себя? Себя от себя не спрячешь.
Галина Васильевна прибегла к обычному лечению — мелкой ручной работой она попыталась снизить гулявшие в ней волны, перевести их в обычную повседневную зыбь. Как странно, ее, хирурга, представителя мелкой ручной работы, успокаивала та же мелкая, но уже домашняя работа. Неисповедимы пути нервных утомлений, раздражений и успокоений. Да, ручная, мелкая, но не хирургическая работа, по-видимому, несмотря на некое внешнее подобие движений пальцев там, в операционной, тем не менее отдаляла ее от профессионального, надоевшего, обязательного и утомительного суперменства, уводила в мирскую суету, где можно позволить наконец почувствовать себя слабой, осознать себя ничтожным человеком, зависящим и подчиняющимся другим, когда за тебя решают, когда тебя ограничивают естественными рамками и ставят на положенное и приятное место, — наверное, эту женщину это делало человеком, женщиной, наверное, именно это и успокаивало.
Галина Васильевна включила телевизор, села в кресло, сложила на коленях ворох сыновних одежд, чтобы где-то пришить пуговицы, что-то зашить, к чему-то подшить, чего-то подштопать. С первых дней жизни Андрея она при всяких неожиданных, раздражающих обстоятельствах, неуместных каких-либо посещений или просто от пустой душевной сумятицы принималась за что-нибудь подобное и чаще всего это приводило ее мало-мальски к норме.
И сейчас, лишь только она положила на колени куртки да штаны своего сына и стала вдевать нитку в иголку, как вновь, по старому проложенному в мыслях пути вспыхнуло сравнение с подобной же процедурой во время операции. Естественно, сравнение было в пользу кривых хирургических иголок с замком для нитки, а не домашних с ушком-отверстием. Там все было легче: вдевала нитку сестра и сама вкладывала уже готовую для шитья нить с иглой в ее работающую руку. А то и еще проще — одноразовые иголки с впаянной нитью и не требующие мучительных поисков дырочки ниточкой. Там — ее приказ, и все дают. И тем не менее лишь только это сравнение с утренней работой всплыло в мозгу, как, обычно и стандартно стало легче, появились признаки надвигающегося умиротворенна, примирения с неизбежными жизненными недовольствами и неурядицами.
Так взаимодействие хирургического суперменства и домашней подчиненности способствовало тому душевному комфорту, той гармонии, которая пока легко восстанавливалась в Галине Васильевне при каких-то, якобы необъяснимых нарушениях ее внутреннего покоя. И сегодня, как всегда, эта встреча в ее душе, казалось бы, несоразмерного и несовместимого вновь умеряло вроде бы беспричинное раздражение и недовольство.
Она постепенно возвращалась к своему обычному состоянию, может быть, норме. Она стала видеть не только реставрируемые тряпки, но и мир вокруг. А вскоре в поле ее расширяющегося внимания попали и мелькающие в телевизоре картины. Галина Васильевна любила включить изображение, а звук почти или полностью убрать. Ей нравилось: они живут, но их не слышно.
Шел какой-то фильм. Юноша о чем-то умолял девушку, а она смотрела на него с любовью, отрицательно покачивая головой. Юноша ее обнимал, целовал, она этому не сопротивлялась, но все равно отрицательно покачивала головой. Дело происходило в каком-то саду. Вокруг были цветы, кусты, деревья. «Великий немой», — сначала усмехнулась про себя Галина Васильевна, а потом стала придумывать, о чем мог идти спор у этой пары, что он у нее просит. Ясно — не о любви дискуссия, но любовь присутствует, и не только в их движениях, действиях, любовь была в воздухе, в деревьях, — во всяком случае, Галина Васильевна ее увидала, почувствовала, откликнулась ее душа, а потому и утвердила в конце концов: «Хороший фильм, наверное, и играют хорошо…»