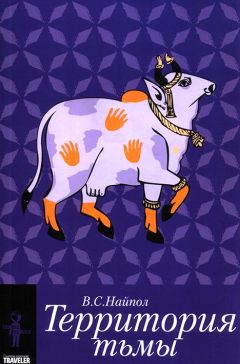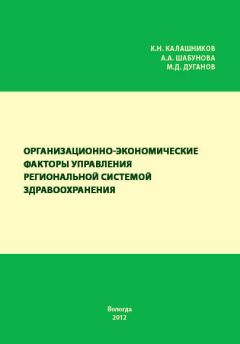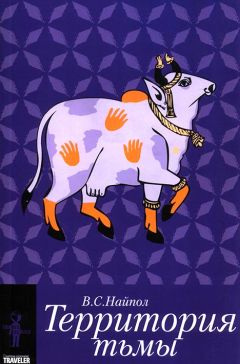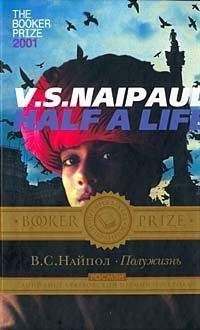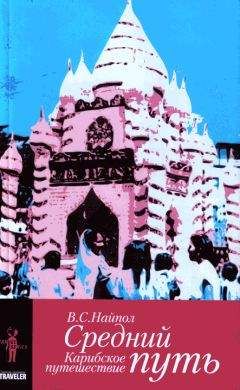Потом меня ждала скука африканских портов. Чувствовалось, что это лишь маленькие площадки на краю необъятного континента, и сразу становилось ясно, что Египет, при всех его неграх, — еще не Африка, и, при всех его минаретах и галабеях, — еще не Восток, а всего лишь последний рубеж Европы. В Джидде галабеи оказались чище, и разъезжало множество новых элегантных американских автомобилей. Сойти на берег нам не разрешили, так что наблюдали мы только портовую жизнь. Верблюдов и коз сгружали с грязных частных пароходов при помощи подъемных кранов и канатов и опускали на причал; их привезли, чтобы зарезать для ритуального пира, который знаменует окончание Рамадана. Взмывая ввысь, верблюды раскидывали свои внезапно сделавшиеся лишними ноги; коснувшись суши — беззвучно или с глухим стуком — они припадали к земле, а потом бежали к своим товарищам и терлись о них боками. На катере вспыхнул пожар; на нашем судне забили тревогу, и через несколько минут появились пожарные машины. «У абсолютизма есть свои преимущества», — сказал молодой студент-пакистанец.
Мы достигли Африки, а у четверых наших пассажиров не было прививки от желтой лихорадки. В Британии как раз свирепствовала эпидемия оспы, начавшаяся в Пакистане, и мы опасались излишне строгих мер в Карачи. Пакистанские чиновники поднялись на борт, выпили как следует, и наш карантин был отменен. А вот в Бомбее индийские чиновники отвергли спиртное и даже не допили предложенную им кока-колу. Они сказали, что очень сожалеют, но те четверо пассажиров должны отправиться в больничный изолятор в Санта-Крусе — иначе кораблю придется остаться на воде. Двое из пассажиров, у которых не было прививки, оказались родителями капитана. И мы остались на воде.
Это было медленное путешествие, приносившее разнообразные и поверхностные впечатления. Зато оно послужило подготовкой к Востоку. После базара в Каире базар в Карачи меня уже не поразил, а слово бакшиш звучало одинаково в обеих странах. Переход от средиземноморской зимы к липкому летнему зною на Красном море произошел очень быстро. Зато другие перемены происходили медленнее. На пути от Афин до Бомбея постепенно проступало иное представление о человеке, заявляло о себе новое понимание властности и раболепия. Сам физический тип, характерный для Европы, вначале растворился в типе африканском, а затем, миновав семитскую Аравию, перетек в арийскую Азию. Человек был здесь ужат и изуродован; он скулил и просил милостыню. Моей первой реакцией была истерика — и безжалостность, продиктованная новым ощущением цельности себя как человека, а также решимость, хоть и запятнанная страхом, упорно оставаться таким, какой я есть. Было не важно, чьими глазами я глядел на Восток; прошло слишком мало времени для этой новой самооценки.
Поверхностные впечатления, несдержанные реакции. Но одно воспоминание осталось со мной навсегда — и я крепко цеплялся за него в тот день, когда мы стояли на воде вблизи Бомбея, когда я видел, как солнце закатывается за отель «Тадж-Махал»[2], и желал в душе, чтобы Бомбей оказался всего лишь очередным портом из тех, куда мы заходили по пути, — таким портом, который пассажир грузового судна может, по своему усмотрению, или посетить, или вообще не заметить.
* * *
Это было в Александрии. Там нам покоя не было от конных экипажей. У лошадей выпирали ребра, а бока карет были такими же обтрепанными, как наряды извозчиков. Кучера окликали вас, а потом ехали рядом до тех пор, пока не замечали очередного пешехода, годного в седоки. Приятно было отделаться от них и наблюдать из безопасного места, с палубы корабля, как они накидываются на других. Это напоминало немое кино: жертва намечена, экипаж несется, жертва настигнута, жестикуляция, кабриолет движется рядом с жертвой и подлаживается под ее шаг — вначале быстрый, потом нарочито медленный, затем ровный.
Но вот однажды утром пустая просторная пристань оживилась необычной суматохой, словно немое кино внезапно превратилось в немую же эпическую картину. Длинные ряды двухцветных таксомоторов выстроились возле здания морского вокзала; рассредоточившись по всей пристани и сбившись в маленькие кучки, как будто ожидая начальственного призыва к деятельности, замерли черные кабриолеты; а вдали, справа, через ворота дока безостановочно приезжали все новые такси и конные экипажи. Лошади галопировали, кучера взмахивали кнутами. На короткое время всё пришло в движение. Вскоре кабриолеты, что находились на краю этого скопления, снова замерли. Теперь показалась причина всеобщего возбуждения: огромный белый лайнер, который, быть может, вез туристов — а быть может, вез в Австралию иммигрантов с десятью фунтами в кармане. Медленно-мед-ленно судно подплывало к берегу. Через ворота к причалам прорывались все новые и новые такси и кабриолеты, лихорадочно торопясь туда, где лихорадку их встречало расхолаживающее зрелище чужих торб и кучек травы.
Лайнер вошел в док ранним утром. И лишь в полдень первые пассажиры шагнули из здания морского вокзала в пустошь пристани. Это и стало начальственным призывом. Кучера начали хватать траву с асфальта и запихивать ее под свои сиденья; каждый пассажир становился мишенью приставаний сразу нескольких извозчиков. Розовыми, неопытными, робкими и беспомощными показались нам эти пассажиры. В руках они держали корзинки и фотоаппараты; на них были соломенные шляпы и яркие хлопковые рубашки, надетые специально для египетской зимы (а с моря дул пронизывающий ветер). Но наши симпатии успели переметнуться: мы были уже на стороне александрийцев. Они прождали все утро; они примчались сюда с таким щегольством, с таким рвением; нам хотелось, чтобы они вступили в бой, победили и увезли своих пленников через ворота дока.
Не тут-то было. Как только кабриолеты и такси окружили пассажиров и протестующие жесты сменились неподвижностью, так что уже казалось, что бегство невозможно, а миг пленения близок, в ворота дока въехали два блестящих автобуса. С корабля они смотрелись дорогими игрушками. Они проехали между такси и кабриолетами, которые снова сомкнулись, а затем расступились, давая автобусам сделать медленный, широкий разворот; и вот уже там, где стояли туристы в яркой хлопковой одежде, виднелся один асфальт. Такси, словно не желая признавать этого окончательного поражения, попятились и двинулись с места, как будто устремляясь в погоню. Затем они неспешно разъехались на прежние места, туда, где лошади доедали с асфальта траву, выпавшую из торопливых кучерских рук.
Весь день кабриолеты и такси оставались в порту, поджидая тех пассажиров корабля, которые не уехали на автобусах. Таких пассажиров было немного; выходили они по одному, по двое, и, похоже, предпочитали такси. Но кучера экипажей не унывали. Стоило показаться очередному пассажиру, кучера по-прежнему подскакивали на сиденьях, хлестали своих тощих лошаденок и с грохотом катились вслед намеченной жертве, мигом преображаясь из лодырей в старых пальто и шарфах в целеустремленных и ловких дельцов. Иногда им удавалось завладеть чьим-нибудь вниманием; в таком случае между несколькими извозчиками часто вспыхивал спор, и пассажиры уходили. Иногда какой-нибудь кабриолет провожал пассажира до самых ворот. И тут мы иногда наблюдали, как крошечная фигурка пешехода останавливается, а затем — к нашему ликованию и облегчению — взбирается в кабриолет. Что, впрочем, случалось редко.
Начинало смеркаться. Извозчики уже перестали пускать вскачь своих лошадей, они разъезжали туда-сюда со скоростью пешехода. Ветер становился все пронзительнее; в порту темнело; загорались фонари. Но экипажи оставались. Лишь позже, когда на лайнере зажглось множество огней и даже его дымовая труба осветилась, а надежда окончательно угасла, они начали один за другим уезжать, оставляя после себя травинки и комья конского навоза.
Ночью я выходил на палубу. Неподалеку, под фонарным столбом, стоял одинокий кабриолет. Он стоял там с вечера, удалившись пораньше от всеобщей суматохи у морского вокзала. Никаких седоков он так и не залучил, и никаких седоков теперь ожидать не приходилось. Фонарик кабриолета давал слабый свет; лошадь жевала, наклоняясь к низкой кучке травы на асфальте. Кучер, кутаясь от ветра, протирал большой тряпкой тускло блестевший верх своего кабриолета. Покончив с протиркой, он принялся смахивать пыль; потом проворно, бегло прошелся щеткой по бокам лошади. Не прошло и минуты, как он снова вышел из экипажа и опять принялся протирать, смахивать пыль и чистить. Казалось, он одержим манией действия. Животное жевало, его бока лоснились, верх кареты сиял. Никаких седоков по-прежнему не появлялось. А на следующее утро лайнер ушел, и док снова оказался пуст.
Теперь, сидя в катере, готовом пришвартоваться к причалу в Бомбее, где имена и названия на крышах зданий и на подъемных кранах были — удивительное дело! — английскими; испытывая неловкость при мысли о бессловесном животном, скорчившемся на полу за спиной своего хозяина, и сходную неловкость — при виде фигур на причале (отнюдь не романтичных, какими обычно представляются первые фигуры на чужом берегу), таких хрупких и оборванных на фоне каменных зданий и металлических кранов; теперь я пытался вспомнить, что в Бомбее, как и в Александрии, в могуществе не может быть ни капли гордости и что поддаваться гневу и презрению сейчас — значит потом испытать отвращение к самому себе.