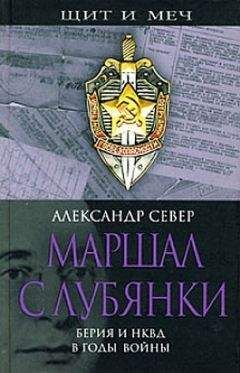Старик хорошо знал свое блудное дело, годами обучаясь в борделях
Варшавы и Вены, где он был завсегдатаем. Курилко, удивляясь, рассказывал про хамство Толстого. Так, однажды за столом на даче
Толстого сидели два знаменитых полярных летчика и Курилко с женой.
Подали блюдо с телятиной. Толстой разделил его с четой Курилок, а остатки отдал летчикам, сказав им, что они как недворяне большего не заслужили. И те молча сожрали им даденое. Все это очень любопытно и достаточно мерзко в свете того, что Сталин хотел перед смертью объявить себя императором и пестовал уцелевших “бывших”. Сейчас еще жив дряхлый старец Сергей Михалков, участник этих оскорбительных для настоящих непродавшихся дворян сталинских псевдомонархических разблюдовок. В кабинете у автора вечного гимна весит его генеалогическое древо, но не висит там список проданных им на
Лубянку людей.
У старца Михалкова есть очень на него похожий брат, профессиональный чекистский провокатор, ездивший за рубеж с группами ученых “пасти” их и кравший у них дорогой одеколон, о чем все знали, но терпели, зная, откуда этот мерзавец и прохвост. Мне это рассказывали люди, за которыми он доглядывал.
Оба брата были ответственны за верноподданность советских писателей красному режиму: один следил и доносил на всех, а второй был рядовым филером, пасшимся в писательском ресторане. Обычно на всех юбилеях, банкетах, чествованиях всегда было много стукачей, доносивших на всех собравшихся. Интересно было бы поприсутствовать на обеде, в котором участвовали бы Михалков-старший, красный граф Игнатьев, красный граф Алексей Толстой, князь Ираклий Андроников и еще кое-кто из их окружения. У всех этих господ были вполне определенные страшные политические биографии. И в эту компанию хорошо вписывался бывший голубой гусар Франца-Иосифа Михаил Иванович Курилко. У
Курилко был брат – петербургский гвардейский офицер, который при большевиках угодил в Соловецкую обитель чекистов СЛОН (соловецкий лагерь особого назначения), где группа бывших царских офицеров, говоривших между собой по-французски, руководила всеми заключенными и держала в страхе блатарей. Потом всех царских офицеров и священнослужителей – всего около трех тысяч человек – задраили в старых нефтеналивных баржах, отбуксировали в Белое море и утопили.
Мне об этом рассказывал один анархист, сидевший в эти годы в
Соловках и слышавший, как в выводимых буксирами баржах русские люди сами себя отпевали. А анархист этот случайно выжил и, спившись, умер от инфаркта во время очередного похмелья.
Когда знаменитого в Ленинграде и во всем распадающемся СССР престарелого академика Лихачева еще молодым человеком чекисты посадили в Соловки, то вид бравого гвардейца Курилки его вверг в шок. Происходя из купеческой семьи старообрядцев-федосеевцев,
Лихачев не любил ни русского царя, ни царских офицеров, презрительно называвших штатских “штафирками”. И то, что в красном лагере тогда командовали белые, его, несомненно, оскорбляло.
Академика Лихачева команда Горбачева очень умело использовала, прикрывая им свое немыслимое воровство. В бесконечные сериалы
“бандитского Петербурга” с семьей Собчака и всех прочих нынешних
“питерцев” академик Лихачев очень даже хорошо вписывается как политически дураковатый, выживший из ума интеллигент и свадебный генерал, почему-то решивший, что вдруг вот так, за здорово живешь, бывшие коммунисты будут возрождать традиционную Россию, а он будет обучать матерых воров и бандитов идеалам русского гуманизма и народнического правдолюбия. Лихачева держали в собчаковской конюшне как козла для успокоения маразменной советской телепублики, которой он часами рассказывал свои байки про тюрьмы и лагеря, подслеповато предсмертно щурясь и уговаривая своих слушателей не делать людям зла. Ни разу Лихачев ни на кого не гавкнул и не окрысился из своей слежавшейся и пропахшей гниющими книгами норы и только все время всему умилялся. А ведь совсем не наивен был, между прочим, старичок, мог бы и гавкнуть, но рот его был очень давно, со времен соловецкой юности, заколочен гвоздями-сотками.
На эту же роль политического дурачка перестроечники подобрали только еще одного русского интеллигента – литературоведа Карякина, однажды знаменито возопившего: “Россия, ты сошла с ума!”, когда Жириновский набрал огромное число голосов на выборах и пьяный ходил по телецентру и раздавал подзатыльники. А все остальные – только циники и приспособленцы, сменившие хозяев и агитпропов.
Да и не очень-то все поменялось на Старой площади, скажу я вам, господа. Немцы, когда оккупировали Брянскую область, тоже не спешили разгонять колхозы и старое партийное руководство – это я знаю от старожилов, переживших все это. Просто председателей стали именовать бургомистрами и старостами – и вся небольшая разница. Братья же
Курилки были слеплены совсем из другого теста, чем Лихачев и
Карякин, которых скорее жаль, как повапленных паралитиков, которых подложили к молодым блядовитым бабам и заставили изображать из себя полноценных мужиков, склонных к нескончаемым политическим совокуплениям, как индийские божества, публично дерущие в зад не только обезьян, коров и крокодилов, но и друг друга.
Сейчас на политической плешке вообще нет ни одного политического идеалиста с незапятнанной биографией, и это основной определяющий знак нашего времени. Когда-то Черчилль бесновался на Ганди, приехавшего в туманный холодный Лондон босиком и в белых подштанниках. В современной России таких явлений ждать не приходится. Курилко был способным графиком немецкого толка – на него, несомненно, повлияли и Дюрер, и средневековые рисунки. Он покупал в Европе и России старинные рамы, особенно любил овальные, заказывал под них подрамники, натягивал на них телячий пергамент, на котором рисовал и раскрашивал свои картины-рисунки. Я помню две его работы – двойной портрет дамы в молодости и в старости и поясное изображение молодой обнаженной женщины, которую сзади щупает за стоячие, как детские членики, соски большой упругой груди улыбающийся скелет. И по скелету, и по женщине ползают какие-то жуки и бабочки. Все сделано очень тонко, похабно, изящно, орнаментально и в чем-то похоже на работы раннего Филонова. По любви к проработке деталей Курилко был вообще очень талантливый и изобретательный человек. Он завел себе похожего на тигра огромного рыжего кота и раскрасил его несмываемыми химическими красками под этого зверя. Кот долго гулял по крышам домов за Большим театром, возвращался к хозяину в форточку. Но потом его за редкую окраску украли и пропили гегемоны. У русских гегемонов вообще любимое занятие украсть чужого породистого кота, продать его на птичьем рынке и напиться водки на котовые деньги, лыбясь, как параши, на свое везенье и редкую удачу.
Очень многие мужчины из “бывших”, уцелевшие и прижившиеся при большевиках, были почему-то ужасно похабными и предприимчивыми по женской части. Я думаю, это оттого, что они очень хорошо знали, что все их сверстники по гимназиям, корпусам и лицеям давно лежат в расстрельных могилах с разбитыми черепами, а они еще могут выпить водочки с красной рыбкой и пощупать за зад и остальные места тупых, как коровы, простонародных славянских баб. Уцелевшие женщины их круга уже очень давно, с самого семнадцатого года, лежали под комиссарами, и лежали и дрыгались вполне добровольно, за жирные харчи и дорогое тряпье, а их мужчинам достались вместо них их кухарки.
Курилко когда-то окончил в Австро-Венгрии иезуитский колледж, чем очень гордился, и внешне в старости был весьма породист и готов для съемок в кино в роли отрицательного европейского персонажа преклонного возраста. Его вместе с внучкой написал ученик
Кардовского Ефанов, блестящий светский портретист типа Цорна и нашего Серова. Портрет получился красивый.
Курилко рассказывал, что глаз он потерял на дуэли. Но на самом деле глаз ему выбили матросы в каком-то портовом публичном доме. Было это еще до революции, и на курилковской даче в Малаховке висели двойные парадные портреты одноглазого, как адмирал Нельсон, хозяина и его красивой жены, дамы общества. Портреты писал гений Петербургской академии Беляшин, огромный мужчина, гасивший струей мочи газовые фонари на улицах Петроградской стороны и умерший, как Рафаэль, от излишеств в дешевом публичном доме, которые он по тогдашней моде откупал один на неделю. Впрочем, так делал не только он, но и поэт-символист Блок, тоже откупавший подобные заведения на Островах, откуда возвращался потом к жене и маме, посиневший и ослабевший, как паралитик.
Все академисты тогда на бесконечных линиях Васильевского острова постоянно пили пиво и посещали проституток и гордились своими подвигами, покрывая этих жертв общественного темперамента.
Курилко был одним из героев подобного образа жизни, но, в отличие от