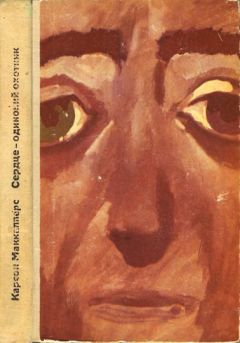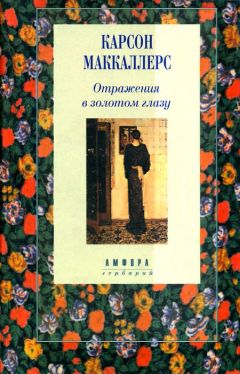Джон осторожно погладил Хью по рукаву свитера.
— Не волнуйся. Мало ли кто попадает в больницу, потому что у них нет сил, и им грустно. Такое с каждым может случиться.
— Пришлось положить ее в больницу — в самую хорошую. — Воспоминание об этих долгих, долгих месяцах было залито глухим одиночеством, жестоким, как «тот раз» — сколько это длилось? В больнице мама могла гулять и всегда носила туфли.
Джон осторожно произнес:
— Пирог — просто класс.
— Мама классно готовит. Она умеет мясной пирог и рулет из лососины — и еще стейки, и хот–доги тоже.
— Терпеть не могу есть впопыхах, — сказал Джон.
Хью так боялся остаться один, что сердце громко забилось сигналом тревоги.
— Подожди, — сказал он. — Давай еще поговорим.
— О чем?
Хью не смог ответить. Даже Джону Лэйни. Он никому не мог рассказать о пустом доме, обо всем этом ужасе.
— Ты когда‑нибудь плачешь? — спросил он. — Я — нет.
— Иногда плачу, — признался Джон.
— Жалко, что мы не познакомились, когда мамы здесь не было. Почти каждую субботу мы с папой ходили охотиться. И ели только перепелок и голубей. Тебе бы это понравилось. — Почти шепотом он добавил: — А по воскресеньям ездили в больницу.
Джон сказал:
— Продавать эти билеты — дело хитрое. Многим оперетты, которые ставят в школьном «Клубе Веселья», совсем не нравятся. Если там не играет никто из знакомых, люди лучше посидят дома и посмотрят хорошую передачу по телевизору. А многие покупают билеты потому, что туда другие ходят…
— Мы себе скоро телевизор купим.
— Я без него вообще не могу, — сказал Джон.
Хью вдруг принялся оправдываться:
— Папа хочет сперва заплатить за больницу. Все ведь знают, что болеть — недешевое удовольствие. А потом купим телевизор.
Джон поднял свой стакан с молоком.
-- Skoal, — сказал он. — Это шведское слово, его говорят перед тем, как выпить. Пожелание удачи.
— Ты знаешь так много иностранных слов и языков.
— Не так уж и много, — честно признался Джон. — Только caput, adios и skoal. И еще то, чему на французском учат. Совсем мало.
— Это уже beaucoup, — сказал Хью, довольный своей находчивостью.
Внезапно копившееся напряжение прорвалось лихорадочным движением. Хью метнулся на задний двор, подхватив на крыльце баскетбольный мяч. Он провел мяч по двору и только потом нацелился в корзину, которую отец повесил ему на прошлый день рождения. Когда промахнулся, с отскока бросил мяч Джону, вышедшему следом. На улице было здорово, Хью от игры стало легче, и в голову пришла первая строчка стихотворения. «Сердце мое — точно мяч баскетбольный». Обычно, когда придумывалось стихотворение, он валялся на полу в гостиной, высунув язык, учась вылавливать нужные рифмы. Мать звала его Шелли–По, когда переступала через него, и иногда легонько тыкала его ногой пониже спины. Матери всегда нравились его стихи; сегодня вторая строчка возникла почти сразу, как по волшебству. Он крикнул Джону:
— Сердце мое — точно мяч баскетбольный, скачет по комнате радостно, вольно. Как тебе такое начало стиха?
— Звучит как‑то безумно, — ответил Джон. Потом торопливо поправился: — Я хотел сказать — странно. Да, странно.
Хью понял, почему он изменил слово, и воодушевление от игры и от стихотворения мгновенно покинуло его. Он поймал мяч и прижал к себе. День сиял золотом, а глициния у крыльца пестрела еще нераскрывшимися бутонами. Она была похожа на водопад цвета лаванды. Свежий ветерок принес запах разогретых солнцем цветов. Светлое небо, голубое, безоблачное. Первый теплый день весны.
— Мне надо бежать, — сказал Джон.
— Нет! — В голосе Хью зазвенело отчаяние. — Ты разве больше пирога не хочешь? Я никогда не слыхал, чтобы ели только один кусок.
Он подтолкнул Джона к двери и опять позвал маму — уже по привычке, потому что всегда звал ее, входя. «Мама!» Ему было холодно после яркого солнца. Ему было холодно не только из‑за погоды: он очень боялся.
— Мама уже месяц дома — она всегда меня из школы ждет. Всегда, всегда.
Они стояли посреди кухни и смотрели на лимонный пирог. И этот разрезанный пирог казался Хью каким‑то… странным. Они стояли, и тишина кухни была жуткой и тоже странной.
— Тебе не кажется, что здесь слишком тихо?
— Это потому что у вас нет телевизора. Мы включаем телевизор в семь утра, и он работает весь день, пока все в доме не улягутся. Есть кто‑то в гостиной или нет — он все равно работает. Спектакли, сценки, скетчи — и так целый день.
— У нас есть радио, конечно, и виктрола.
— Но это совсем не то, что телевизор. Если есть телевизор, все равно, дома твоя мать или нет.
Хью не ответил. Их шаги глухо звучали в холле. Ему снова стало нехорошо, когда он поднялся на первую ступеньку и коснулся рукой столба.
— Ты не мог бы сходить со мной наверх?..
Голос Джона прозвучал громко и нетерпеливо:
— Сколько раз я уже говорил тебе, что должен продать эти билеты. К таким вещам, как «Клуб Веселья», следует относиться серьезно.
— Ну, на секундочку — мне нужно показать тебе наверху кое‑что важное.
Джон не спросил, что именно, и Хью отчаянно старался придумать хоть что‑то, чтобы завлечь Джона наверх. В конце концов он сказал:
— Я собираю проигрыватель. Нужно много знать про электронику. Мне отец помогает.
Но не успел он закончить, как понял, что Джон ни на секунду не поверит этой лжи. Кто станет покупать проигрыватель, если нет телевизора? Он ненавидел Джона так, как только можно ненавидеть того, кто тебе очень нужен. Он должен был сказать что‑то еще и расправил плечи.
— Я просто хочу, чтобы ты знал, как я ценю твою дружбу. Все эти последние месяцы я как‑то совсем отдалился от людей.
— Все в порядке, Браун. Не нужно так нервничать из‑за того, что твоя мать была… ну, там где она была.
Джон протянул руку к дверной ручке, и Хью задрожал.
— Может, если бы ты мог сходить со мной наверх хоть на минутку…
Джон посмотрел на него озабоченно и непонимающе. Потом медленно спросил:
— Ты наверху чего‑то боишься?
Хью хотелось рассказать ему все. Но он не мог сказать, что его мать сделала в тот сентябрьский день. Это было слишком ужасно… и странно. Так поступают «больные», а вовсе не его мама. И хотя в его глазах бился дикий ужас, а тело тряслось, он ответил:
— Не боюсь.
— Ладно, пока. Извини, но надо идти: долг есть долг.
Джон закрыл входную дверь, и Хью остался один в пустом доме. Теперь его ничто не могло спасти. Даже если бы дом заполнила толпа мальчишек, они смотрели бы телевизор и ржали над шутками из скетчей, ему бы это не помогло. Нужно подняться наверх и найти ее. Он подумал, что последние слова Джона могут придать ему храбрости, и повторил их — громко, вслух: «Долг есть долг». Но уверенности в голосе не было; в тишине они прозвучали странно и как‑то сдавленно.
Он медленно повернулся к лестнице. Сердце больше не было баскетбольным мячом — оно билось, как барабан под палочками джазмена, все быстрей и быстрей, пока он поднимался по ступеням. Ноги заплетались, словно он шел по колено в воде, держась за перила. Дом выглядел странным, безумным. Когда он взглянул на стол внизу, ваза со свежими цветами тоже показалась ему необычной. На втором этаже висело зеркало, и собственное лицо испугало его — таким сумасшедшим оно выглядело. Инициалы на школьном свитере в зеркале были перевернуты, рот открыт, как у идиота из приюта для умалишенных. Он закрыл рот и всмотрелся пристальнее. Но все равно отражения предметов — стол внизу, диван наверху — выглядели то ли сломанными, то ли искаженными от того ужаса, что таился внутри, хотя все вещи были ему хорошо знакомы. Он быстро взглянул на закрытую дверь справа от лестницы, и джазовый барабанщик заколотил чаще.
Он открыл дверь ванной, и на секунду ужас, травивший его весь день, нарисовал перед глазами все так, как было в «тот раз». Мама лежала на полу, повсюду кровь. Мама лежала мертвая, и повсюду была кровь, кровь на ее разрезанном запястье, кровь ручейком стекала в ванну и стояла там лужицей. Хью прислонился к косяку и взял себя в руки. Перед глазами прояснилось, и он понял, что сейчас все совсем не так, как в «тот раз». Апрельское солнце трепетало на белом кафеле. Ванная была яркой, как обычно, в окне сияло солнце. Он зашел в спальню — там стояла пустая кровать под розовым покрывалом. На туалетном столике лежали дамские вещи. Комната выглядела как обычно, словно ничего не случилось… ничего не случилось, и он бросился на стеганое розовое покрывало и заплакал от облегчения и тяжелой, унылой усталости, которая длилась так долго. Рыдания сотрясали тело, и джазовое быстрое сердце успокаивалось.
Все эти месяцы Хью не плакал. Он не плакал в «тот раз», когда нашел маму на полу в пустом доме, а вокруг была кровь. Не плакал — но сделал ошибку, которую не должен был делать скаут: сперва поднял тяжелое окровавленное тело матери и только потом начал ее перевязывать. Он не плакал, когда позвонил отцу. Не плакал те несколько дней, когда они решали, что делать дальше. Не плакал, даже когда врач предложил Милледжвилль, и когда они везли ее на машине в больницу — хотя отец проплакал всю обратную дорогу. Он не плакал за едой, которую они готовили — каждый вечер стейки, целый месяц, пока не почувствовали, что стейки уже лезут из глаз и ушей; они перешли на «хот–доги», но и те полезли из ушей и глаз. Они жили среди остатков пищи на загаженной кухне — в ней никогда не было чисто, кроме субботы, когда приходила уборщица. Он не плакал теми одинокими вечерами, когда сидел один в школе после драки с Клемом Робертсом и знал, что остальные мальчишки тоже думают гадости о его матери. Он сидел дома в грязной кухне, ел сушеный инжир или шоколадные батончики. Или шел смотреть телевизор к соседке, мисс Ричардс, старой деве, которая смотрела передачи для старых дев. Он не плакал, когда отец напивался до того, что не мог есть, и Хью приходилось ужинать одному. Он не плакал даже в те длинные, томительные воскресенья, когда они ездили в Милледжвилль: там он дважды видел босую женщину на крыльце, она разговаривала сама с собой. Женщина была пациенткой, и при виде нее его охватывал ужас, которого он не мог объяснить. Он не плакал, когда мама в самом начале сказала: «Не наказывайте меня, не оставляйте меня здесь. Поедем домой». Он не плакал от жутких неотступных слов: «сильно изменилась» — «сумасшедшая» — «Милледжвилль», — он не мог плакать все те долгие месяцы, наполненные тупым ожиданием и ужасом.