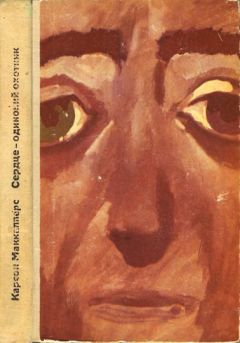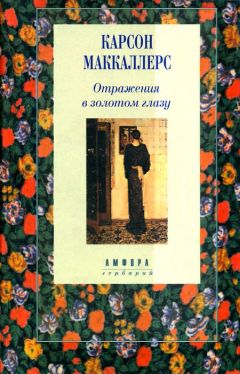Он все еще рыдал на розовом покрывале, мягком и холодном под его влажной щекой. Он всхлипывал так громко, что не услышал, как открылась входная дверь, не слышал, как мать позвала его, не слышал даже ее шагов по лестнице. Он рыдал, когда мать дотронулась до него, и вжался лицом в покрывало. Он даже весь напрягся и попытался отбрыкнуться от нее.
— Почему, Любимка? — спросила мать, назвав его давним детским именем. — Что случилось?
Он зарыдал еще громче, хотя мать старалась повернуть его лицом к себе. Он хотел, чтобы она беспокоилась. Он не поворачивался, пока она не встала с кровати, и только тогда взглянул на нее. На ней было незнакомое платье — из синего шелка, похожего на бледный весенний свет.
— Милый, что случилось?
Ужас всего этого дня отступил, исчез, но он не мог рассказать о нем матери. Он не мог объяснить, чего боялся, не мог объяснить ужас от того, чего никогда не существовало. Но когда‑то же оно было.
— Зачем ты это сделала?
— Первый теплый день, и я просто вдруг решила пойти купить новой одежды.
Но он говорил не об одежде; он думал о «том разе», о той обиде, что родилась, когда он увидел кровь, об ужасе и немом крике: почему она так поступила со мной? Он думал об обиде на мать, которую любил больше всех на свете. Все эти последние тоскливые месяцы гнев боролся в нем с любовью и чувством вины.
— Я купила два платья и две нижние юбки. Тебе нравится?
— Я их ненавижу! — сердито сказал Хью. — У тебя нижняя выглядывает.
Она дважды повернулась; краешек нижней юбки ужасно торчал.
— Но она и должна быть видна, глупый. Такой стиль.
— Мне все равно не нравится.
— Я в чайной съела сэндвич с двумя чашками какао, а потом пошла к Менделю. Там столько симпатичных вещей, что трудно было оторваться. Я купила эти два платья и — посмотри, Хью! Туфли!
Мать подошла к кровати и зажгла свет. Туфли были на низком каблуке и голубого цвета, с бриллиантовыми блестками на носках. Он не знал, к чему придраться.
— Они больше похожи на вечерние, чем на такие, в которых просто выходят на улицу.
— У меня никогда раньше не было цветных туфель. Я не могла их не купить.
Мать как бы протанцевала к окну; нижняя юбка крутилась под новым платьем. Хью перестал плакать, но все еще сердился.
— Мне не нравится, потому что похоже, что ты стараешься казаться молодой, а тебе уже, наверное, сорок.
Мать замерла у окна. Лицо ее внезапно стало тихим и грустным.
— В июне мне будет сорок три.
Он сделал ей больно; гнев внезапно исчез, осталась только любовь.
— Мама, прости, что я так сказал.
— Когда я была в магазине, я вдруг поняла, что не заходила туда больше года. Только представь!
Хью не мог больше выносить этой печальной тишины, окутавшей маму, которую он так сильно любил. Не мог вынести ни свою любовь, ни мамину красоту. Он вытер слезы рукавом и встал с кровати.
— Я никогда еще не видел тебя такой красивой. И таких красивых платьев тоже никогда не видел. — Он присел перед мамой и потрогал яркие туфли. — Туфли действительно классные.
— Я только положила на них глаз, как сразу подумала, что они тебе понравятся. — Она подняла Хью и поцеловала его в щеку. — Теперь ты весь в помаде.
Хью вспомнил остроумное замечание, когда стирал помаду.
— Это говорит только о том, что я пользуюсь популярностью.
— Хью, почему ты плакал, когда я пришла? Что‑то в школе?
— Просто когда я пришел, тебя не было, и записки не было никакой…
— Про записку‑то я и забыла.
— И весь день я чувствовал… Пришел Джон Лэйни, но ему надо было идти продавать билеты «Клуба Веселья». И весь день…
— Что? Что весь день?
Но он не мог сказать маме, которую любил, обо всем этом ужасе, о подлинной причине. В конце концов он просто сказал:
— Весь день мне было как‑то… странно.
Придя домой, отец позвал Хью на задний двор. Он выглядел встревоженным, точно нашел ценный инструмент, который Хью оставил валяться на улице. Но во дворе ничего не было, а баскетбольный мяч лежал на своем месте, на заднем крыльце.
— Сын, — сказал отец, — я хотел тебе кое‑что сказать.
— Да, сэр?
— Мама сказала, что ты сегодня плакал. — Отец не стал дожидаться объяснений. — Я просто хочу, чтобы мы с тобой друг друга хорошо понимали. Что‑то случилось в школе — или с девочкой — или ты чего‑то не понимаешь? Почему ты плакал?
Хью вспомнил весь сегодняшний день, который уже выглядел таким далеким, точно он смотрел на него в телескоп не с той стороны.
— Не знаю, — ответил он. — Может, просто перенервничал.
Отец положил руку ему на плечо.
— Никому не следует нервничать, пока не исполнится шестнадцать. До этого тебе еще долго.
— Я знаю.
— Я никогда не видел твою маму такой красивой. Она такая радостная, такая хорошенькая — лучше, чем все последние годы. Ты это понимаешь?
— Эта комбинация — эта нижняя юбка, она должна торчать. Такой стиль.
— Скоро лето, — сказал отец. — И мы будем ездить на пикники — все втроем.
Перед глазами у Хью мгновенно вспыхнули блики на желтом ручье, летние зеленые леса, полные приключений. Отец добавил:
— Я хотел сказать тебе еще кое‑что.
— Да, сэр?
— Я просто хочу, чтобы ты знал: я видел, каким молодцом ты был все это мерзкое время. Каким молодцом, каким, черт возьми, молодцом.
Отец произнес грубое слово так, точно говорил со взрослым. Он не из тех, кто разбрасывается комплиментами — дневник проверял строго и любил держать инструменты в порядке. Никогда не хвалил его, никогда не говорил взрослых слов. Хью почувствовал, как заливается краской и коснулся щеки холодной ладонью.
— Я просто хотел тебе это сказать, сын. — Он потрепал Хью по плечу. — Ты через годик уже своего старика ростом обгонишь. — Отец быстро вошел в дом, а Хью остался наедине со сладким и непривычным вкусом похвалы.
Хью стоял в темневшем дворе, пока краски заката на западе не потускнели, а глициния не стала темно–пурпурной. На кухне горел свет, мама готовила ужин. Он знал, что чему‑то пришел конец; ужас отступил от него, ушли и гнев, мешавшийся раньше с любовью, и жуть, и вина. Он чувствовал, что теперь не будет плакать — по крайней мере, пока не исполнится шестнадцать, — но в ярких слезах его блестела такая мирная, освещенная кухня, а его больше ничего не травило, он радовался чему‑то и больше не боялся.