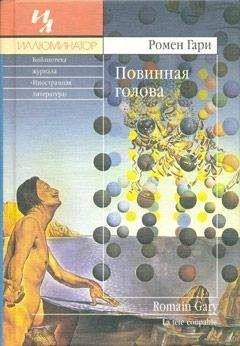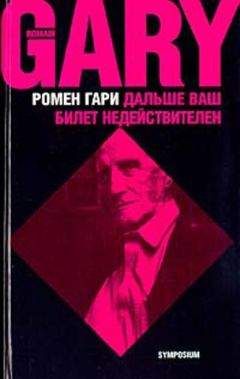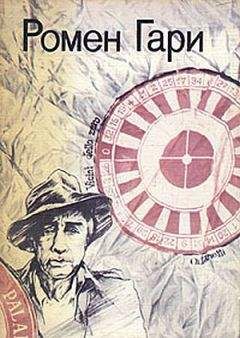— А потом я переехал на Таити, чтобы демонстрировать падение и разложение Запада в более приятном климате. И когда я встаю на четвереньки и жру корм вашего котенка, вы должны меня благодарить. Это же конец белой расы. Пробил час Китая. Привет!
Махнув на прощание рукой, он перескочил через подоконник, унося в кармане тридцать тысяч франков из кассы.
Таитянская ночь, которую именовали «покровительницей ласк» во времена, когда вещи еще называли своими именами, осыпала его своими милостями. Всякий раз, когда она принимала его в объятия, Кону казалось, что он попал в воздушный гарем, где невидимые наложницы вьются вокруг него, расточая едва ощутимые знаки любви и заботы; он чувствовал себя окруженным некоей изначальной женственностью, состоящей из нежности, тайного трепета, прикосновений, вздохов и многообещающих нашептываний. Состояние благодати достигалось мгновенно, оставалось только ждать явления вахинэ[6]. Так таитянская ночь исполняла свои обязанности по пробуждению чувственности, возложенные на нее древними, истинными богами.
Китаец, конечно, до завтра денег не хватится, а к тому времени они уже будут приятнейшим образом потрачены. Половину Кон намеревался отложить на покупку красок, хотя и считал это напрасной тратой. Полотна, которые он подписывал Чингис-Кон (этот псевдоним он принял в память о другом известном смутьяне — комике из кабаре и еврее по национальности, расстрелянном немцами во время войны, — чувствуя себя в каком-то смысле его реинкарнацией[7]), писали ученики из мастерской Паавы. Но туристы, посещавшие Дом Наслаждения[8], ожидали найти там «творческую» обстановку, посему приходилось держать разбросанные на видных местах тюбики с краской и несколько «незавершенных» холстов.
Кон открыл эту золотую жилу почти сразу по прибытии на остров, полтора года назад: таитяне жили в атмосфере культа Гогена, своеобразной смеси гордости и чувства вины. Когда-то они бросили его подыхать в нищете, среди всеобщего равнодушия, бесконечных неприятностей с полицией и властями, не говоря уж о лютой ненависти миссионеров, последний из которых преподобный Анри де Лаборд, проживший дольше остальных, писал через тридцать лет после смерти художника: «Хотелось бы, чтобы об этой жалкой личности перестали наконец говорить». Теперь здесь благоговейно чтили память того, чьи картины, растиражированные в репродукциях и открытках, оказались так полезны для создания таитянского мифа и развития туризма в земном раю.
Короче, пустовала отличная вакансия, и Кон решил ее занять, чувствуя себя в амплуа Гогена весьма комфортно. Он задумал обложить Таити податью, которую окрестил «налогом на Гогена», и, несмотря на конкуренцию, недурно преуспевал — благодаря, главным образом, своей внешности и предосудительному образу жизни. Фуражка капитана дальнего плавания, золотая серьга в ухе, пиратская борода и испепеляющий взгляд необычайно импонировали туристам. Весь остров знал фарэ[9] художника в нескольких километрах от Пунаауиа, с двумя деревянными эротическими скульптурами — точными копиями тех, что Гоген установил перед своим жилищем в Атуоне, к великому негодованию епископа Маркизских островов. Дом Наслаждения Кона сохранил от оригинала только название, но директор туристического агентства «Транстропики» Бизьен намеревался в ближайшее время реконструировать подлинный дом Гогена на линии туристического маршрута, разработку которого он как раз завершал. На местных жителей распутство Кона, его скотские повадки, нелады с властями и ненормативная лексика тоже производили наилучшее впечатление, вполне соответствовавшее немеркнущему воспоминанию о его великом предшественнике, а также лубочному представлению о «проклятом художнике» и «непризнанном гении». Для пущего правдоподобия Кон время от времени выставлял в Папеэте какую-нибудь богопротивную мазню, собственноручно им сотворенную, которая так шокировала добропорядочных обывателей, что полная безнаказанность была ему гарантирована: никому неохота было связываться с еще одним Гогеном.
Таким образом, мнение, будто люди склонны повторять старые ошибки и не умеют извлекать уроков из истории, не всегда соответствует действительности.
Кону не сразу пришла в голову идея «налога на Гогена». В первые месяцы жизни на Таити турагентство платило ему по двадцать франков в день за то, что он исполнял перед туристами роль «бродяги с южных островов», — это безотказно действовало на европейцев, воспитанных в духе романтики и начитавшихся книжек об экзотических странах. Кон подошел к делу творчески и обогатил образ, внеся в него кое-что от себя, чем снискал глубокое уважение Бизьена. Им был создан типичный персонаж современной истории: — бывший». Бывший соратник Кастро по Сьерра-Маэстра, утративший революционные иллюзии и бежавший на Таити, где теперь, с разбитым сердцем, влачит жалкое существование; бывший талантливый ученый, разочарованный в науке, которая свернула на путь гибельных ядерных экспериментов, и бежавший на Таити, где теперь, с разбитым сердцем, влачит жалкое существование; бывший коммунист, разорвавший после Будапешта партийный билет и бежавший на Таити, где теперь, с разбитым сердцем, влачит жалкое существование; бывший режиссер из Голливуда, продавший свой талант и бежавший на Таити, где теперь, с разбитым сердцем… Бизьена восхищала легкость, с которой Кон изобретал, повинуясь капризам настроения, все новых и новых «бывших», сидя за столиком кафе, где экскурсовод Пуччони, дабы отметить «случайную встречу», угощал бродягу с южных островов, а тот за даровую выпивку рассказывал о себе — после долгих уговоров, нехотя, под сочувственными взглядами иностранцев. И не было случая, чтобы преисполненные сострадания слушатели не вручили несколько купюр своему гиду, чтобы тот тактично передал их «бедняге». Подлец Пуччони взимал с этой суммы двадцать процентов комиссионных, что Кон расценивал как проявление глубокой безнравственности.
И даже теперь, хотя Кон уже давно работал Гогеном, его все еще тянуло иногда поимпровизировать перед публикой — это случалось, как правило, в тягостные минуты, когда он вдруг оказывался наедине с самим собой и со своим подлинным прошлым — тем, от которого он бежал на Таити, где теперь, с разбитым сердцем, влачил жалкое существование…
Отправившись за своим мотоциклом, оставленным недалеко от «Гранд-отеля», Кон шел по улице Поля Гогена, мимо лицея Поля Гогена и площадки, где начиналось строительство музея Поля Гогена. Меж тем пятьдесят лет назад братья из католической миссии и епископ Мартен именовали «жалкую личность» не иначе как Поль Гаден.
Шум прибоя всегда казался ночью более грозным и яростным, может быть, потому, что Океану передавалась тревога людей. Млечный Путь распластывал по волнам шлейф своих световых лет, и Океан мерцал легкими блестками, сыпавшимися с неба, словно монетки размененной вечности. Лагуна, мачты шхун и кокосовые пальмы островка Моту-Ута наслаждались покоем в лунном свете. А где-то под всем этим спал вулкан, давший некогда жизнь Таити и потухший в незапамятные времена, напоминая Кону все померкшие огни былых распрей и истощившихся надежд. Из них-то и образуются впоследствии камни.
Со стороны Бидонвиля, мешаясь с рокотом прибоя, неслись крики, музыка и смех таитян и китайцев, праздновавших взятие Бастилии парижанами. Эти звуки вызывали у Кона зуд в ногах. Ему не терпелось пуститься в пляс.
Он уже сидел на белом мотоцикле с широким, точно крылья, рулем, вызывавшим у него порой ощущение, будто он Георгий Победоносец и сейчас отправится на поиски дракона, как вдруг рядом затормозил хорошо знакомый «ситроен».
У сидящего на водительском месте Рикманса был хитрый, всезнающий, преисполненный самодовольства взгляд законченного кретина и прямой пробор ровно посредине непроходимо тупой головы. Даже в темноте глаза его искрились глупостью. Кон считал его достойным преемником жандарма Шарпийе, который некогда составил знаменитый протокол, где обвинял Гогена в езде по городу «на транспортном средстве без габаритных огней» — в ту пору это был единственный экипаж с лошадью на всем архипелаге. Впрочем, Кон не держал зла на Рикманса за то, что произошло семьдесят лет назад. Гоген тогда был единственным художником на Маркизских островах, а Шарпийе — единственным жандармом. Они не могли не встретиться.
— У вас будут крупные неприятности, Кон.
— У меня крупные неприятности уже две тысячи лет. Идите к чертовой матери!
Когда Кон выходил из себя, его закипавшая ярость давала о себе знать львиным рыком. Сидя на мотоцикле, держа одну ногу на земле, другую на педали, без всякой иной причины, кроме ощущения бессилия, Кон своим basso profondo[10] принялся извергать проклятия, адресованные Рикмансу лишь постольку, поскольку тот имел уши. Кон сбежал на Таити, чтобы ни в чем не участвовать, и главной его заповедью было ни в коем случае не читать газет. Но он стал жертвой обстоятельств. Торопясь по нужде, он схватил первый попавшийся номер «Франс-суар» у китайца из Фии и устроился под гуаявами с великолепным видом на бухту Манурева. Спустив штаны и присев орлом, он в ожидании событий машинально бросил взгляд на приготовленную газету. И на первой же странице узнал, что он продолжает резню в Камбодже, недавно отравил газом йеменских детей, а в Пекине насмерть забил ногами старика, который осмелился, несмотря на «культурную революцию», хранить дома партитуру Бетховена. На странице три Кону сообщали, что он сумел создать бактериологическое оружие нового поколения, а также газы нервно-паралитического действия, а на странице пять — что он участвовал в марше протеста вместе с чикагскими неграми, крича: «Смерть белым собакам!», и вместе с белыми, крича: «Смерть черным собакам!», так что на одного человека собак получалось многовато. Кон пришел в такое бешенство, что у него напрочь отказали функции кишечника, и он потом чуть не отравился слабительным.