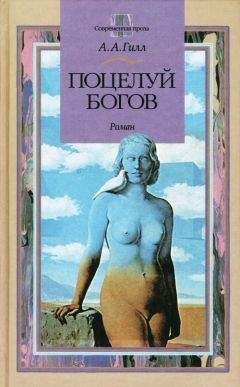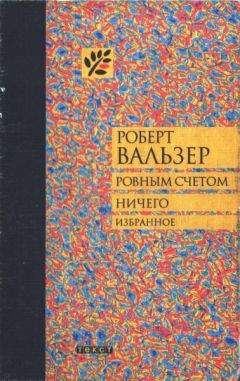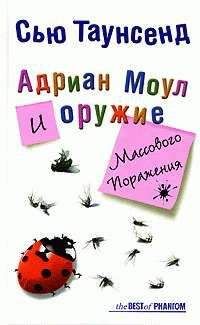Джон подумал о двух вещах сразу. Вернее, об одной подумал, а другую почувствовал. Подумал, что скорее всего произошло самое яркое и запоминающееся событие в его жизни и ничто из того, чего он достиг, не могло сравниться по значимости с возможностью перепихнуться с Ли Монтаной. И от этого на него накатила огромная волна депрессии. Как если бы он не представлял, что следовало чувствовать по поводу прошедшей ночи, как если бы его мозг ждал знака, но, оценив событие и его последствия, взвесив все «за» и «против», пришел к выводу, что нужно наречь его печальным. Он мог бы вполне возвести его в ранг потрясающего — трахаться с самой знаменитой женщиной в мире, будто с какой-нибудь сучонкой! — вволю порадоваться и отвести душу в безудержном хвастовстве, но в его натуре было вить покров страдания и разочарования из самого мало располагающего к тому материала.
Джон взглянул на спящую Ли и взял бутылочку замазки. Тщательно обмакнул в краске заскорузлую общественную кисточку, удалил с фотографии родинку и подул на страницу. Матовый, тусклый состав лег на глянцевую задницу.
Он захлопнул книгу и швырнул ее на стопку. Потом подошел к поэтическому разделу — четырем тощим полкам; их теснили справочники, энциклопедии и пухлые словари. Жирные кладези фактов, привлекающие внимание крикливым ранжиром униформы: от африканского муравьеда до зиготы. Жалкие, убогие поэты ютились в бледненьких, плохо оформленных обложках. Некрасноречивые, фальшиво скромные. Он потянул знакомый корешок, который словно бы смущался от того, что был накрепко зажат между Купером[1] и Дей-Льюисом[2]. Джон Дарт. «Камень-неудачник».
На кремовом супере небольшая потертость, углы листов перепачканы от частого прикосновения пальца — авторского пальца. Он пролистал тридцать две страницы. Двадцать восемь стихотворений, сто четыре строфы, триста рифм, двадцать шесть полурифм, пятьдесят аналогий, двадцать семь сравнений, пятьдесят две метафоры, закат, восемнадцать пейзажей, пять кроватей, одно мангровое дерево, четыре тысячи слов, два содомита, шесть актов и один бубон отняли четыре года жизни, при том что с момента публикации прошло два года. Продано девяносто восемь экземпляров. Его издатель, в распоряжении которого еще имелось пять сотен томиков, тихо радовался хорошим рецензиям: «Вполне свежий голос» («Поэтическое обозрение»); «Напористый, но в то же время ищущий стиль» («Литературное обозрение»); «Тонкий слух» («Йоркшир пост»). Не считая Ли Монтаны, сборник стал делом всей его жизни. Упади в сей момент на его голову полки с фолиантами по альтернативным методам самолечения, самопознанию женщин и сравнительным исследованиям религий, он — единственное, что останется от его напористой и вместе с тем ищущей жизни.
Джон снова уселся на стул за кассой и раскрыл книжку, пытаясь посмотреть свежим взглядом на знакомые до боли слова и вернуть острое чувство радости и гордости, которое он испытал, когда держал сборник в первый раз. Увы, оно поблекло и стерлось. И никак не приходило опять, будто он вспоминал забытую любовную связь, от которой осталось одно только чувство вины. Он выбрал стихотворение «Хлебы и рыбы» и откинулся на спинку.
Отец швырял тревожные хлебы в недвижные воды,
Будоражащее подношение судаку-язычнику —
Тому, что висел в своем темном одиночестве.
И рядом я — любимец мамы, единственный ребенок.
Я тоже бросил хлебный катышек в челюсти-жернова.
Скомканная, безмолвная мольба на безнадежном крючке,
Натянутая леса убивает всякую мысль,
Пустая голова прекращает знакомую борьбу и разевает рот.
Чуждая стихия вспарывает нутро,
Бессловесные глаза, немее камня,
Слепые, точно небо, исторгают холод.
Джон торжественно закончил чтение. В самом деле хорошее стихотворение. Стихотворение только потому, что он так сам его назвал, хотя некоторые строки были короче других.
Дверь магазина отворилась. Появился Клив.
— Господи, как ты меня напугал. Я решил, что забыл запереть дверь.
— Нет. Просто я встал пораньше и решил прибраться. Привет.
— Грандиозно. Я твой должник. Чувствую себя препогано. Ну как ночка? А она какова, а? Фантастика! Я хочу сказать — в натуре! Сам до одури продрочился над книгой.
Клив поставил на прилавок коричневый бумажный пакет и выудил из него полипеностироловые стаканчики с капуччино, три сдобные булочки и флакон с аспирином. Клив был огромным шотландцем, весьма упитанным, с рыжими редеющими волосами и похожими на изюмины глазами.
А еще он был романистом — из тех, кого ни разу не публиковали. Рукопись держал в кладовке в синей папке рядом с рулонами туалетной бумаги и пылесосом. Джон читал его роман — эротико-семенную фантазию о глубоководном ныряльщике, который повстречал маньячку-русалку. На первых двадцати страницах ныряльщик общался с ней не менее двадцати раз. В обеденный перерыв Клив выходил в кладовку, запускал в ширинку руку и продумывал механизм совокупления с русалкой, у которой нижняя половина, как известно, от рыбы.
— Джон, у меня тут небольшая проблема. Не могу представить, где у русалки промежность. Я написал, что он влупил ей сзади — этакая псово-налимья поза. Как ты думаешь, это возможно?
— Клив, русалки бывают только в сказках.
— Знаю. А если бы были на самом деле?
— Если бы были на самом деле, то, думаю, метали бы икру на водоросли и твоему ныряльщику пришлось бы оплодотворять ее спермой.
— Нет, так не пойдет. Не слишком-то сексуально дрочить на морскую травку. До сего времени дело кончалось играми и язычком. Верхняя половина в порядке. А вот нижняя вызывает сомнения.
— Понимаю.
— Помоги, Джон, — умолял Клив. — Мне надо быть логичным с самого начала. Иначе никто не поверит.
— Ну, знаешь, я вообще сомневаюсь, что кто-нибудь поверит в подводника Гарта Мактавиша, который трахает дочь Нептуна Сиару и балуется на закуску с треской.
— Очень остроумно. И какова, на твой поэтический взгляд, основная трудность обольщения русалки?
— Добиться эрекции в Северном море.
Джон не уставал удивляться настойчивому желанию продавцов книжных магазинов разнообразить ассортимент товара своими произведениями. Сам он стал поэтом. Клив — эротомаринистским писателем. Дороти составляла психолого-политический самоучитель для женщин. А хозяйка магазина миссис Пейшнз неспешно дожевывала сборник бабушкиных рецептов, который потом намеревалась опубликовать. В других лавках подобного явления не наблюдалось. Продавцы магазинов одежды не спешили после работы домой, чтобы там на досуге заняться моделированием белья, а в аптеках не торчали новоиспеченные Марии Кюри и докторы Джекиллы. Только в книжных магазинах утверждение «Я продавец» сопровождалось быстрым многозначительным «однако», которое предполагало наличие скромной рукописи. Весьма трогательно. Жалко, но трогательно.
Клив затолкал полсдобы в рот и начал листать Ли Монтану. Стакан с кофе он поставил на «Камень-неудачник». Джон быстро спас творение и поместил обратно между Купером и Дей-Льюисом.
— Боже, чего бы только не дал, чтобы добраться до этого! — Клив осыпал липкими крошками идеально чистую лобковую кость Ли Монтаны. — А ты?
Джон понял, что оказался на перепутье. Он мог набрать в легкие побольше воздуха и выпалить: «Ты имеешь в виду, поиграться с милашкой? Так знай, я вчера ее поимел». И получить мимолетное удовольствие, наблюдая, как задохнется от удивления Клив, а потом примется задавать недоверчивые вопросы. Да, было просто замечательно, настоящий секс. Что ты говоришь? И так и этак. А затем оба. Кайф. Только знаешь, мне не стоило об этом рассказывать. Да, да, она меня просила. Не знаю, мне кажется, они настоящие. Вопросы посыплются один за другим. Лично, по телефону, дома, на улице. Одни и те же вопросы — пошлые и откровенные — дни, недели и годы. Со временем ответы станут идеально отточенными, от постоянного повторения превратятся в рутину, как попурри певца, упорно возвращающегося к своему единственному хиту. Джон взглянул на «Камень-неудачник» и понял, что его хрупкое творение погибнет под твердым переплетом славы Ли Монтаны, поэтический огонь угаснет и Джон Дарт-стихотворец превратится в Джона Дарта-продавца, которому однажды повезло и он выиграл приз в сексуальной лотерее. Тогда он решил, что ни одна живая душа не должна знать о том, что произошло прошедшей ночью. Вопрос в конце концов риторический. Пусть Клив сам на него отвечает.
— Я бы все отдал за одно прикосновение. — Напарник немедленно оправдал его надежды, а Джон подумал: именно такова и будет цена. — Распрощался бы даже с гонораром за «Плавники желания».
Джон рассмеялся.
— Смейся, смейся, только не заливай, что не успел ее натянуть.