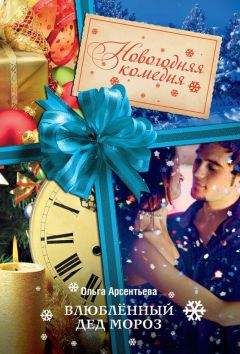— Вор! — шипит отец, а бабушка пытается сменить тему разговора.
Аскиль то утверждает, что отец где-то потерял свою коллекцию, то заявляет, что отец на самом деле разрешил ему продать ее. А он, Аскиль, выпил в «Корнере» кружечку пива, а потом вернул оставшиеся деньги отцу.
— Врешь! — кричит отец, наклоняясь над столом, глаза его темнеют. — «Корнера» быть не могло. Мы тогда еще не переехали в Данию.
У Аскиля на лбу выступает пот, он бросает взгляд на бабушку. Потом встает: «Пойдем, Бьорк, домой, мы тут лишние!» Он опирается на палку, которая всегда у него под рукой, но Бьорк пока что никуда не собирается: «Еще только пять часов, Аскиль, оставь меня в покое!»
Откуда-то появляется Стинне, она заявляет, что если Аскилю очень надо, то пусть он и отправляется домой. В последнее время Стинне что-то слишком часто стала дерзить; к тому же она начала прогуливать школу, и мама не знает, что с ней делать.
— Ну что, Бьорк, ты идешь? — не успокаивается дедушка. Он вышел из гостиной и стоит в прихожей, рассовывая по карманам бутылки крепкого пива, которые он стащил у папы. Засранка убежала в подвал, и Аскиль недовольно оглядывается по сторонам в поисках дочери. Хотя тетушке почти столько же лет, сколько моему отцу, она по-прежнему живет с родителями. «Анне Катрине! — кричит Аскиль. — Пора домой!» Но бабушка все равно не двигается с места.
— Мы получили открытку от малыша Кнута, — неожиданно восклицает она, привлекая к себе всеобщее внимание.
Обычно взрослые никогда не говорят о дядюшке Кнуте, который на девять лет моложе отца. Он ужасный разгильдяй — так и не повзрослел. Бывает, что месяцами или годами от него ничего не слышно, и если от него и приходит письмо, так это значит, у него опять какие-то неприятности с его несчастными девицами и, следовательно, ему нужны деньги. А благодарности от него не дождешься! Он даже на Рождество открытку не пришлет, вот мерзавец! Мама очень переживает из-за всех этих женщин, постоянно возникающих на пути дядюшки Кнута, который, когда ему исполнилось четырнадцать лет, убежал из дома и стал моряком и с тех пор крайне редко дает о себе знать — ведь ему наплевать на своих родственников. В нашей семье только у отца и водятся деньги. Именно он всегда передает бабушке деньги для Кнута, когда у того неприятности. Аскиль терпеть не может, когда при нем вспоминают о Кнуте. Лицо у него вытягивается, и он спрашивает: «Какой такой Кнут?» Он так и не смог простить сыну, что тот сбежал из дому незадолго до своего дня рождения, наплевав на трехскоростной велосипед, который Аскиль купил ему в подарок. Велосипед этот до сих пор ржавеет и пылится в сарае дома на Тунёвай. «Не трогать!» — неизменно рычит Аскиль, стоит нам только приблизиться к велосипеду.
Маме кажется, что очень глупо со стороны отца так бессмысленно тратить деньги, и иногда, когда мы вечером ложимся спать, они ругаются из-за Кнута. Мама говорит, что дядя Кнут никогда не научится отвечать за свои поступки, пока отец прикрывает его задницу, а отец ворчит, что ему надоело всегда быть хорошим для всех. Хотя маме больше, чем отцу, нравится спорить, их препирательства часто заканчиваются тем, что она начинает плакать. Ее рыдания проникают через стены в мою комнату, и я иду в спальню Стинне, которая спит крепче, чем я, иду — чтобы разбудить ее и чтобы вместе пошпионить за ними. К сожалению, видим мы всегда одно и то же: мама сидит на диване и плачет, а отец стоит спиной к окну и вздыхает, и пепел с сигареты сыплется на пол. Потом Стинне разрешает мне лечь в ее кровать. Мама считает, что я вообще-то уже слишком большой, чтобы спать со Стинне, но кровать Стинне гораздо шире моей, так что сестра не возражает — если я, конечно, буду лежать тихо.
Бабушка достает из сумки открытку от дяди Кнута, а Аскиль удивленно поглядывает на жену из прихожей.
— Что он там пишет? — интересуется Стинне и встает за спиной бабушки.
Обычно бабушка никому не рассказывает о письмах Кнута, так что это, наверное, какая-то особенная открытка. Бабушка надевает очки и читает открытку про себя, ничего не произнося вслух. Потом снимает очки и оглядывает всех нас.
— Он приезжает второго июня, — голос ее звучит неуверенно. — Это четверг.
В наступившей тишине мое «Приезжает!» звучит как раскат грома. Все смотрят на меня. Стинне говорит, что мы пойдем с ним гулять к морю. Сигне считает, что это прекрасная идея, но отец говорит, что мы ведь не знаем: а вдруг у Кнута есть какие-нибудь другие дела?
— Конечно же он должен сходить к морю, — говорит мама.
Бабушка сияет. В глазах у нее стоят слезы, руки нервно теребят открытку, взгляд устремляется к прихожей, где без движения застыл Аскиль.
— А где он сейчас? — спрашивает отец, и бабушка отвечает, что последний год Кнут живет на Ямайке.
— Ямайка! — кричу я. — Ямайка!
— У него там свое дело, — продолжает бабушка, но папе что-то в это не очень верится, ведь бабушке свойственно приукрашивать достижения Кнута.
— Ну что ж, посмотрим, — говорит отец, которому трудно скрыть свою радость.
Бабушка снова бросает взгляд в сторону прихожей, и тут в дверях медленно возникает Аскиль. «А он снова стащил пиво», — говорит Стинне, показывая на правый карман дедушки. Аскиль вынимает несколько бутылок пива из кармана и глупо хихикает. Похоже, что про украденные монеты все уже забыли, и вот Аскиль снова усаживается в гостиной. Ему хочется рома, это будет очень кстати, ведь теперь они ждут гостей с Ямайки, и отец достает бутылку рома из бара с матовыми стеклами и наливает всем. Аскиль залпом выпивает ром и тут же наливает себе еще стаканчик. Потом громко рыгает и с укором смотрит на меня. «Неприлично рыгать за столом», — говорит он.
* * *
Аскиль и Бьорк повстречались в березняке в районе Калфарет в Бергене. Через семь лет без малого его отправили в Заксенхаузен. Он был кем-то вроде контрабандиста-коллаборациониста и попытался надуть немцев, загнав им кучу пиломатериалов, которые им же и принадлежали.
Аскиль дружил с братом бабушки Эйлифом и часто бывал в доме на улице Калфарвейен. Случалось, он заходил и тогда, когда Эйлифа не было дома. Однажды, в саду под нежно-зелеными березами он поцеловал бабушку, потом много раз целовал ее на бергенском Новом кладбище, и хотя родственники что-то заподозрили, им тем не менее не запрещали оставаться наедине, потому что Эйлиф их никому не выдавал. Аскиль еще только учился на инженера-судостроителя, а его отец был всего лишь помощником капитана — так что он был не лучшей партией для дочери судовладельца.
Сам дедушка считал, что его предки когда-то давным-давно сбежали от французской революции и поэтому в его в жилах течет голубая кровь. Он был темноволос, словно француз, глаза сверкали как угли, а черная растительность на лице была такой буйной, что ему приходилось бриться по несколько раз в день, чтобы выглядеть опрятно. В молодости Аскиль был красавцем, хотя самым очевидным подтверждением его голубой крови стали синеватые тени, которые с годами пролегли у него возле глаз цвета красного дерева.
Когда Свенссоны — еще до своего банкротства — не захотели принять его всерьез, они нанесли ему страшную обиду. Постепенно дедушка стал презирать все, что было важно для родственников бабушки, и даже не захотел связываться с доставшимся от них наследством: изящной мебелью и серебром, — которые, когда они разорились, прабабушке Эллен удалось припрятать — все это много лет спустя, после смерти Эллен, так и осталось в Бергене и в конце концов досталось транспортной компании, потому что Аскиль не мог и не хотел оплачивать перевозку вещей в Данию. Но тогда — перед войной, до банкротства и страшных лет в Бухенвальде и Заксенхаузене — он лишь просто называл семейство Свенссонов сборищем нурланнских крестьян, которые только и могут, что наживаться на чужом труде, а сами ни на что не способны. Вот и сидят они теперь в Бергене, на белой патрицианской вилле, в окружении толпы слуг и пытаются изображать из себя настоящих датчан — просто тошнит от них. «Они даже не заметили, что Норвегия стала свободной страной со свободными людьми», — говорит Аскиль, зажигая тем самым огонек в сердце Бьорк. Аскиль в чем-то был революционером и нисколько не походил на тех образованных и красноречивых молодых людей, которых Свенссоны приглашали в гости и которым папа Торстен пытался сбыть с рук нашу бабушку. Особенно по сердцу Торстену был молодой врач Тур Гюннарссон. Он прекрасно говорил по-датски, поскольку учился в Копенгагенском университете и происходил из хорошей семьи с крепкими традициями и большими земельными угодьями. От помощников же капитана и их хулиганского отродья Торстен ничего хорошего не ожидал. Но чем хуже Торстен говорил об Аскиле, тем более привлекательным тот становился для Бьорк; в семье было трое детей, она была младшей, и из двух дочерей только она еще не вышла замуж. Эйлиф познакомился с Аскилем в училище, и иногда по выходным они вместе ходили в бергенские подпольные кабаки. Аскиль водил Эйлифа туда, где тот прежде не бывал и где девицы были готовы на все и не предъявляли никаких претензий, когда первые лучи солнца проникали через щели убогих портовых лачуг. Аскилю было не больше четырнадцати, когда матросы его судна впервые купили ему проститутку в Амстердаме и уговорили его подняться за нарумяненной тридцатилетней женщиной в боа из перьев в маленькую комнатку, где за тонкой перегородкой плакал ребенок. Она легла на спину, смочила влагалище слюной и с нетерпением посмотрела на Аскиля, а тот стоял как столб, не зная, что ему делать. Женщина вздохнула и сказала, что принято раздеваться, после чего Аскиль стянул с себя брюки, увидев к своему ужасу, как его мужское достоинство вяло и бессмысленно висит между ног. Он так и стоял, но тут она повернулась на бок, улыбнулась в первый и в последний раз, затем вздохнула и стала массировать его яйца, пока его плоть не начала вырастать в ее руках.