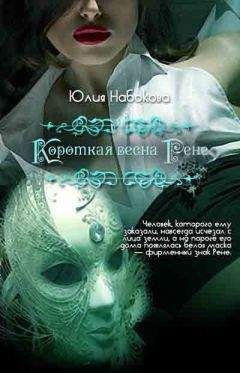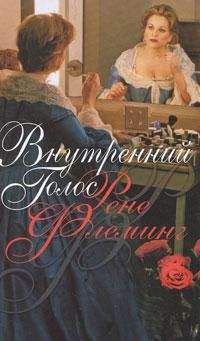— Ну-ну, зачем же так преувеличивать? — доставая очередную сигару, возразил Чатсворт. — Сцена с Анитой просто чудесна.
— Ошибаетесь, любезный, — оживился Бергманн. — Она чудовищна.
— Опять же хорошо снято.
— Побойтесь бога! Тоска и убожество. Души нет, души! Это похоже на дешевую хронику.
— Хм, даже не знаю, можно ли это как-то вытянуть.
— Вы — нет, — Бергманн уже улыбался. — Зато я представляю. Вижу совершенно ясно. Сам подход оказался неверным. Теперь у меня раскрылись глаза. А я-то, старый дурак, все блуждал в потемках.
— Думаете, это можно исправить?
— Завтра же и начнем. — Бергманн был сама решимость. — Я пересниму все. Я буду работать день и ночь. Мне все стало совершенно ясно. Мы нагоним график. Мы сделаем вам великий фильм.
— В этом никто и не сомневается! — Чатсворт обнял Бергманна за плечи. — Только сначала вам придется убедить меня, что он того стоит… Знаете что? Давайте пообедаем сегодня втроем? Там и поговорим, идет?
Полагая, что раньше мы работали как проклятые, я сильно ошибался. Последующие дни были ни на что не похожи. Я потерял им счет: настолько вымотался. Да что там, все падали с ног от усталости, но работали как одержимые. Даже актеры не роптали.
Бергманн заразил нас своей энергией. Из него ключом била такая уверенная сила, что всех завертело в этом потоке. Мы снимали почти без дублей. Необходимые изменения в сценарии, как по волшебству, возникали сами собой. Бергманн четко видел цель. Работа шла как по маслу.
Последний день съемок приближался с головокружительной быстротой. Как-то вечером (не помню уже, может, это и был последний вечер) мы заработались допоздна, делая первый эпизод на Пратере. Бергманн был в ударе. Осунувшийся, с исступленным блеском в запавших глазах, он творил чудеса: лепил, плавил, превращал съемочную группу в единый организм, в котором каждый, однако, был незаменим. Мы буквально валились с ног, но всеми владело какое-то бесшабашное веселье. Это напоминало магическое Действо, на котором бал правил Бергманн.
Когда был отснят последний дубль, он торжественно подошел к Аните и поцеловал ей руку.
— Благодарю вас, дорогая. Вы были прекрасны.
Анита была тронута до глубины души. Ее глаза наполнились слезами.
— Фридрих, простите, я знаю, что временами бываю совершенно несносной. Вы так много мне дали… Вы самый замечательный человек в мире.
— Ну вот, — пробормотал Лоуренс Дуайт, обращаясь к своей культе. — Вот мы все и посмотрели. Правда, обрубочек?
Артур Кромвель жил в Челси. Не хотим ли мы заскочить к нему на рюмочку-другую? Анита радостно согласилась. Нам с Бергманном не осталось ничего другого, как принять приглашение. Элиот, Лоуренс и Харрис тоже присоединились. Бергманн настоял, чтобы позвали Дороти, Тедди и Роджера. Мы и шагу не сделали, как возник Эшмид.
Я вздрогнул. Ну вот, сейчас начнется. Однако ничего не произошло. Бергманн слегка напрягся. Но Эшмид отвел его в сторонку и что-то сказал, улыбаясь своей порочной улыбочкой.
— Поезжай с остальными, — заявил Бергманн, вернувшись. — Меня довезет Эшмид. Он хочет поговорить.
Не знаю уж, о чем они говорили, но когда мы добрались до жилища Кромвеля, стало ясно, что примирение состоялось. Бергманн весь сиял, а улыбка Эшмида стала еще более умильной. Он уже звал маэстро просто по имени, Фридрихом. Но и это еще не все. Тот называл его Зонтик.
На вечеринке Бергманн блистал. Он дурачился, рассказывал всякие байки, пел, пародировал немецких актеров, показывал Аните, как надо танцевать Schuhplattler.[52] В его глазах светились искорки того восторга, что наступает под воздействием алкоголя на пороге полного изнеможения. А я — искренне радовался его успеху. Так сын радуется добрым отношениям родного отца со своими приятелями.
Было около четырех утра, когда все наконец разошлись. Элиот предложил подвезти нас. Бергманн сказал, что хочет пройтись пешком.
— Возьмите меня с собой, — предложил я. Я понимал, что все равно не усну. Я был как взведенная пружина. А в Найтсбридже, может, удастся поймать такси.
Был тот предрассветный час, когда фонари светятся призрачным, нездешним светом далеких планет. Влажный, иссиня-черный асфальт Кингз-роуд был безлюден, как блюдце луны. Названная в честь давно усопшего монарха, сейчас эта дорога не имела отношения ни к королю, ни к иному живому существу. Крохотные домишки захлопнули свои двери от чужаков и тихо дожидались рассвета, дурных вестей и телеги молочника. Вокруг ни души. Ни полисмена. Ни даже бродячего кота.
В этот час наше второе «я» словно перестает существовать. Ощущение причастности, принадлежности, реальности, заполненной собственным именем, адресом, номером телефона, становится почти неразличимым. Человек зябко ежится, поплотней запахивает воротник и думает про себя: «Я бродяга. Я странник. Мне некуда идти».
Странник, скиталец. Всем своим существом я чувствовал рядом безмолвное присутствие Бергманна, моего случайного спутника; его закрытую от меня душу, запертую внутри самой себя и непостижимую, как Бетельгейзе,[53] несмотря на то что судьбе угодно было — пусть ненадолго — свести нас в наших скитаниях. Он шел, чуть набычившись, нелепая шляпа чудом держалась на густой шевелюре, вокруг горла, заросшего седой щетиной, обмотан шарф, руки сцеплены за спиной. У каждого из нас был свой путь.
О чем он думал? О «Фиалке Пратера», о жене, дочери, обо мне, о Гитлере, о еще не написанных стихах, о детстве или завтрашнем дне? Каково ему ощущать себя заключенным в это приземистое, коренастое тело, смотреть на мир этими темными, древними глазами? Каково это: чувствовать, что ты — Фридрих Бергманн?
Существовала тема, которую мы по молчаливому уговору старательно обходили, — она была слишком горькой. Но в то же время единственной, достойной обсуждения между двумя, идущими одной дорогой. Как можно так жить? Не проще ли разом оборвать такую жизнь? Как можно все это терпеть? Что удерживает тебя?
Знал ли я сам ответы на эти вопросы? Нет. Да. Не знаю… Я смутно полагал, что существует некое хрупкое — тронь натянутую струну — и она порвется! — равновесие. Живешь себе по заведенному распорядку. Есть еда, которую надо есть. Глава одиннадцатая, ждущая своего завершения. Телефонные звонки. Поездки на такси. Работа. Развлечения. Люди. Книги. Вещи на прилавках магазинов. Всегда есть что-то новое. Должно быть. Иначе равновесие нарушится, струны ослабнут и провиснут.
Мне казалось, что всю жизнь я жил по чьей-то указке. Рождение — оно сродни походу в ресторан. Официант подходит с кучей предложений. Спрашиваешь у него совета. И ешь то, что он принес, думая, что тебе это нравится, потому что это дорого, или редкость для этого времени года, или это блюдо обожал Эдуард VII. Тебе предлагают плюшевого мишку, футбол, сигареты, мотоцикл, виски, Баха, покер, культуру Эллады. А напоследок еще одно весьма необычное блюдо — Любовь.
Любовь. От самого слова, его вкуса, запаха внутри меня начинает что-то трепетать. Ах, Любовь… В то время она представлялась мне в облике Дж.
Весь последний месяц я был влюблен в Дж. Я влюбился с первого взгляда, на какой-то вечеринке. На следующий день я получил первое письмо, открывшее врата к внезапному, немыслимому, хотя, как оказалось тогда, вполне реальному и, как кажется теперь, безнадежно-неизбежному успеху, вызывающему легкую зависть у моих друзей. На следующей неделе или чуть позже, когда мое сотрудничество с «Империал Балдог» завершится, мы уедем. Наверно, на юг Франции. Все будет восхитительно. Мы будем плескаться в воде. Валяться на солнце. Улыбаться случайному фотографу. Сидеть в café. Взявшись за руки, стоять на балконе и любоваться морем. Немея, замирая от счастья, я укрою его от чужих глаз. Я буду алчен. Ревнив. Как фокусник, я буду одно за другим доставать из своей шляпы чудеса и показывать их. А потом («потом», о котором никто не думает и которого никогда не ждет) наступит пресыщение, все эти чудеса и фокусы надоедят или мне, или Дж. И мы очень вежливо, нежно, с щемящей тоской опуская глаза, расстанемся. Расстанемся, пообещав друг другу сохранить нашу дружбу. Расстанемся, вкусив горечь противоядия от той судорожно-мучительной ревности, которой уже не суждено будет вспыхнуть, доведись однажды одному из нас встретить другого под руку с кем-то еще.
Счастлив мой бог, что я ни словом не обмолвился Бергманну о Дж. Он бы присвоил себе и это, как он поступал со всем, что попадалось на его пути. Это — мое и останется моим навсегда. Даже когда от нас обоих, и от Дж., и от меня, останется лишь надпись на табличке, уцелевшей от храма нашей тщеславной суетности.
После Дж. будет K., Л., М. и так далее по алфавиту. Здесь нет ничего от сентиментального цинизма или циничных сантиментов. Ведь на самом деле я жажду вовсе не Дж. Прелесть Дж. мимолетна. Она пройдет, а жажда останется. Жажда возвращаться в темноту, в постель, ощущать руками теплую наготу другого тела, где все едины — Дж., К., Л. или М. Где нет ничего, кроме близости и мучительной безнадежности объятий. Кроме алчущей плоти, которая поглощает все остальное. И когда все позади, проваливаешься в сон без сновидений, сон, похожий на смерть.