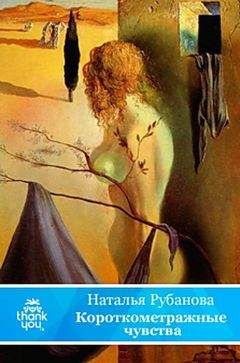Поза — раскованная, «упаковка» — продуманно-небрежная — резко контрастировали с тем, что прячут волки-одиночки за темными очками. Я была, пожалуй, слишком сильна, а это пугает привыкших видеть лишь одну сторону луны. Поэтому Не Та, вставшая вдруг между нами, заплакала, а Не Тот закашлял и отвернулся. Совсем как тогда… Как тогда… Да ведь это и есть Тогда! Но Сейчас мне безумно хочется спрятаться, скрыться от этой странной пары — юной загруженной дивы в узких джинсах да от делано-равнодушного вьюноши, одну за одной смолящего «Золотую Яву»: в конце концов, они оба уже удалены и не подлежат воскрешению — такова моя воля, дык!
Хочу — прячусь. Хочу — ворочу: благо, в руках у Того спасительный спиртуоз. У меня же — «Книга перемен», в символах которой я, вообще-то, мало что смыслю и таскаю ее за собой исключительно по дурной привычке, которую очень скоро влегкую выжгу каленым железом: и пусть — развороченное дымящееся мясо, и пусть! Коли бартером является svoboda in vivo, можно пожертвовать красотой тела.
Но вот и 64 гексаграммы, канканирующие в голове, скоропостижно выходят в тираж, а первый круг символов «И-цзина», чья борьба начал типа эм-жэ перестала занимать мой мозг, больше не снится.
Тот же ничегошеньки не знает, поэтому и запевает новую песню заморского гостя, «Песню о второстепенном» — ему не хочется терпеть экстрим-пару слишком долго, потому что у них всё как всегда: не к месту, не ко времени, да и попросту никому не нужно. Наконец, не выдержав напряжения и исключив возможность перезагрузки смыслов, Тот подает голос:
— Здравствуй, женщина!
Быть может, я должна была отбить, словно воланчик ракеткой, банальность. У-ди-вить. В общем, придумать еще какой-нибудь «тарам-пам-пам». Все дела. Но я-то как раз не хотела больше глотать шпаги, давным-давно объевшись сим острым блюдом, от которого случалась бессонница, опоэтизированная романтиками-невротиками и товокнутыми символистами. Поэтому и не ответила, а Тот, грамотно наливая спиртуоз в серебряные рюмки-наперстки (с каких это пор он сменил привычную тару?), произнес как будто в воздух:
— Не будем доводить тела до инфарктов. Просто выпьем яду, если еще раз увидим их вместе, — и указал на диву с юнцом.
Я снова смолчала, но выпила: оч-чень хор-рошая ледяная водка.
— Все это глупо! — он снова посмотрел на них и налил еще.
— Да, — я невольно вздохнула, но только невольно. — Да-а… Не стоило встречаться, право, — сказала за меня барышня из позапрошлого века.
— Право?.. — повторило эхо.
— Глупо встречать прошлое в коротких штанишках! — рассмеялась я и присела, штанишки те, однако, поддерживая, да примериваясь к прыжку, ради которого, собственно, весь этот бред и затевался: я ведь давным-давно хотела кое-кого убить. О нет, вовсе не Того! Между тем карман мой давно жег Лук суперсовременный, складной — так, во всяком случае, курсивилось на ценнике. Я ловко разложила его и, будто всю жизнь только и делала, что целилась да стреляла, натянула тетиву: о-о, тот звук до сих пор стоит в ушах, как стоит перед глазами и кровь, стекающая с ее груди на ну очень узкие джинсы…
Потом, конечно, стало не по себе: захотелось спрятаться, убежать, исчезнуть. Испариться. Не быть. Или перемотать пленку назад. Нажать на спасительный Delete. Закричать. Заорать. Забиться в угол.
— ТЫ УБИЛА НЕ ТУ! — закричали после секундного замешательства Тот и Не Тот. — Как ты могла? Почему-у-у? — бубнили во все горло мои мальчики-близнецы, и каждый по-своему рвал на себе кудри: они ведь были кудрявые…
— Каждая настоящая wwwoman имеет в середине жизни право на частичное самоубийство.
— Что ты несешь? Что за бред? Кому она мешала? Ей больно! Откуда в тебе столько жестокости? — баритонил(и) и баритонил(и) он(и), а я все не решалась еще раз взглянуть на почти уже потустороннюю девушку в очень узких джинсах. «Надо добить», — решила наконец я, поборов страх, и, натянув тетиву, выпустила стрелу — вторую и последнюю, предназначавшуюся, быть может, не ей.
О, это был славный и, возможно, самый красивый на свете полет: блаженный, танцующий… Полет, которого ждала я с прошлого века, а это не шутки! Стрела попала аккурат (сердечная цель!), а мальчишки — седой и черноволосый, оба кудрявые — встали на колени перед едва испустившим дух телом да принялись ни с того ни с сего раскачиваться из стороны в сторону: но если б я видела их глаза, а не спины, то удивилась бы еще больше.
Конечно, не детектив: а потому что до бела раскаленная — белым — бел-ай!-йя боль, смотреть на которую по-настоящему страшно. Острый конденсированный опыт короткометражного чувства в человечьем виварии, сравнимый после бегства оттуда разве что с детеррентом.[27] Но и боль проходит, не оставляя ни морщинки.
Та воровато пробирается по паутине тех лет. Путается. Боится. Нарушает спокойствие затерянного в пространстве времени. Ей всего лишь хотелось понять. ПОНЯТЬ: по глупости тогда или по-настоящему, любовь или сука, самообман или то, ради чего в ссылку там или куда их всех, парам-пам-пам?!.
…А подуставший за чересчур эмоциональный trip Хулигангел, сидящий на том самом ДОМище с готичными штуками в самом центре Немереного Пространства, оттирал изячный свой лук Haute Couture от проступившей pret-a-porte'шной крови да приговаривал: «Милая Шу, не плачь, милая Шу, не плачь! Твой Хулигангел не палач, милая Шу, не плачь!» — он частенько развлекался тем, что отправлял людей в Прошлое, а это ведь куда более опасный вояж, нежели пересечение какой-нибудь границы даже без этих чертовых документов!
И, свесив ножки над чьим-то пластиковым (какое скучное слово!) окном, он никак не мог взять в толк, почему люди ловятся на его удочку, соглашаясь бог весть на что, лишь бы повторить события, каким и в свое время происходить-то не пристало. «Или они не могут без мучений?» — не всегда без оснований подозревал он.
«Милая Шу, не плачь…» — замурлыкал Хулигангел, но неожиданно осекся, совершенно упустив из виду, что нашу героиню давным-давно не нужно утешать: она спешит туда, где ее ждут всю жизнь и еще пять минут.
Остальное — просто сны и мелодии кружащихся над грубым асфальтом нежных листьев: короткометражные чувства-с от юных и беззаботных.
Как-то зашел ко мне Йохан Палыч. Сел на табурет (который я, заметим, в прошлогодний снег с балкона…) и сидит. Смотрит. Натурально. Натурально так, говорю, сидит-смотрит. Как растужиться? Не могу-у: «Тя-потя-вытя-не мо…» — кхэ-кхэ…
— Ты чего, Каналья Муровна, время теряешь? — Йохан Палыч всегда проглатывал первое «а» в моем отчестве, но я не обижалась: заезженная хрестоматиями привычкнутость — увы — оказывалась и вправду дана (помнишь, старче? «Дано: треугольник АВС…» — впрочем, не морщинь носок), уж не знаю только, насколько «свыше».
— Почему это теряю? — я сделала вид, будто возмутилась, хотя, конечно, понимала: Йохан Палыч прав.
А прав он всегда, и ныне и присно, во все адовы веки, поэтому, застав меня за снятием собственной кожи и сегодня — меня! полуразобранную, кхэ-кхэ, избушку! на вовсе даже не курьих ногах! — имел полное право не церемониться: вот и двинул. Легко. Классично. Профи! В глаз, кхэ-кхэ, миндалевидной — а что делать, если повезло? — формы. Я зажмурилась и коснулась нового синяка, но тут же отдернула руку, испугавшись, что Йохан Палыч и ее ампутирует, благо, опыт удаления различного ливера — в том числе сердц, сердец, сердечек — у него имелся, а я не знала, станет ли он переходить к конечностям; в общем, береженого б. бережет. Так рука моя — мясо на костях — и опустилась на кровоточащее нечто, не так давно из последних сил претворявшееся коленкой, хотя на самом деле… на са…
— Помнишь, Каналья Муровна, какой день сего дня? — нахмурился Йохан Палыч, подливая себе Hennesey, купленный мною вчера на последние разменянные $: фри-лансером не оплатинишься — не опалладишься (озолотиться же представлялось по меньшей мере дурным тоном), впрочем, на не самый плохой коньяк хватало, а ела я, кхэ-кхэ… Ела ли я?..
— 14-е февраля, — из горла моего выкатился хриплый звук, похожий на театрально сдавленный крик, да только актриса из меня была никакая. Худая.
— 14-е. А в каком году? Отвечай! — Йохан Палыч нахмурился еще сильнее.
— В смысле… в каком смысле, «в каком году»? — я сделала вид, будто не поняла вопроса, и на всякий случай окончательно содрала кожу со второй коленки: трогательная лужица крови, образовавшаяся под стулом, казалось, разжалобит Гостя, но не тут-то было.
— В том смысле, что Историю знать надо. Негоже такие вещи не помнить!