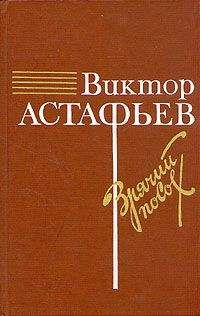– Обскакал. Как нечего делать. А мог бы тебе… мироед… мог бы и умывальник тебе сегодня начистить. Сколько ты назолял мне этих минимумов, сколько страшил ЛТП. Да не буду. Ни-ни. Не хочу мараться. Прощаю.
– Кто ж знал-ведал? – скамейка казалась Шалабоду слишком твёрдой, он ёрзал. – А и хорошо, что так всё кончилось. Теперь у меня к тебе никаких претензий.
– Ещё бы!
– Ты вот что, Митук, к Вере моей больше не приставай. Больная она. Снова в больницу отвёз.
– Передавай привет.
– Не приставай, Митук! Оставь нас в покое! У нас уже внуки…
Митук поднялся, взял со стола ломать хлеба, сунул в карман.
– Курёнку. Всех накормил-напоил, а про него чуть не забыл.
– Чуешь, Митук? Или нет? – Шалабод тронул его за рукав.
– Слухай, бригадир! – икая и шатаясь, Митук погрозил собеседнику трясущимся пальцем. – Ей нравится, тебе нет… Да разберитесь вы в своей семье. Сами. С глазу на глаз. Что у вас за семья? Вроде интеллигентная. Ей, глянь ты, нравится, если Митук прижмёт-притиснет. А ему, стало быть, нет! Разберитесь. А я – пошёл. Меня, Шалабод, будить ни свет ни заря права такого не имеешь. Шахтёрский пенсионер я…Понял?!
Стоял тёплый звёздный вечер, где-то далеко играла гармошка. Больше Митук ничего не помнит, словно провалился куда-то. Проснулся наутро и никак не мог понять, где он. А денег не было. Даже мелочи. Зверски разламывалась голова, ныло, болело всё тело. Он поднёс ко рту банку с водой и долго пил, не ощущая её вкуса.
Вон она, баба Дуня, вон. За щербатой калиткой мелькнула маленькая, сухонькая фигурка. Но она ли это? А, может, кто другой топчется по двору? Если прислушаться, слышны ее шаги, чьи ж еще, а также–перебранка. Ворчит старая, разговаривает с котом, поди. Живая, значит, а люди, ишь ты на них, точили языками лишь бы что... Выходит все-таки со двора? Да-да, наконец-то. Давно не было видать старухи, давно. Сперва показывается конь бабы Дуни – тонкая ореховая клюка, – ею она долго нащупывает землю, будто ищет что-то,– и такое впечатление, что она, клюка та, игрушка какая-то, и ею управляют не иначе как по радиосвязи, спрятавшись за углом, – долго и придирчиво выбирает, где воткнуть-приземлиться, а немного позже появляется и нога старухи в красном ботике, не сразу – вторая. Старуха кряхтит, ахает и охает, а затем, перевалившись кое-как за порожек калитки, облегченно вздыхает: все, выбралась, благодарить Бога надо, «на люди». Оглядывается по сторонам. Видит мало что: глаза только для слёз. И слышит совсем плохо – но лучше, чем видит.
– О, баба Дуня, ты опять с конем?!– около дома старухи колодец, и Митрофан, переливая воду из бадьи, накрепко взятой на цепь, в ведро, веселыми, оживленными глазами смотрит на нее: он, по всему видать, рад видеть соседку.
– С конем, с конем,– выдыхает воздух из груди баба Дуня.
– И куда ж едешь?
– А во постою, подумаю... Я такой ездок, что куда хочешь могу заехать.
– Заезжай и к нам...
– Там видно будет...
Митрофан понес ведро с водой, его двор напротив, а старуха стоит на одном месте, словно приросла. Маленького расточка, сухонькая, сгорбленная, баба Дуня и в самом деле решает, куда ей сходить. Лавка еще закрыта, ведь рано: заведующая и продавщица – она в одном лице – живет в соседней деревне, приезжает на велосипеде позже. А то ж обычно там, у прилавка, собираются женщины, как на собрание, и толкуют о жизни, а заодно ждут машину с хлебом. Пока хлеб тот да селедку подвезут, вот уж наговорятся вволю они!..
Давно не была в лавке баба Дуня, давно. Сегодня можно сходить: Танька, ее невестка, поехала в город, видеть не будет... И клюка появилась у старухи, теперь, пока опять не отнимет ее Танька, жить можно. Так вот и бывает: когда не имелось клюки, то хотелось старухе навестить и сестру, она в конце улицы живет и еще более больна и беспомощна, чем сама баба Дуня, и к соседке заглянуть, не говоря уже о лавке, а как появилась возможность, то вот стоит на одном месте, будто и в самом деле к земле приросла, и не знает, куда пойти. И тогда баба Дуня, оставляя перед собой следы-кружочки от клюки, шаркает ботиками к бывшему деревенскому клубу – в нем живут молдаване, муж и жена – а прямо к нему, к клубу-то, приткнулась узенькой полоской заросшая травой дорога, по которой сельчане возят в последний путь земляков. Людей в Плоском живет мало, потому и заросла дорога – некого хоронить, а хоть и случается такое, то редко.
Кое-как доползла старуха до погоста, отдышалась, откашлялась, а тогда похвасталась Митьке, он спит под аккуратным бугорком:
– Пришла, пришла, сыночек...
Ей, наверно, и действительно кажется, что Митька слышит ее, только ответить не может, и баба Дуня усаживается, как на кроватку бывало, к сыну на бугорок, гладит дрожащей узловатой рукой земельку, и рассказывает ему о своей жизни. В лавке всего не скажешь – там слово какое лишнее выпустишь и не рад будешь: люди додумают, перекрутят-перевернут и сразу же Таньке донесут, хоть каждый осуждает ее, упрекает, что не смотрит надлежащим образом за бабой Дуней, а пенсию до копейки прибирает к рукам да еще опекунство оформила в сельсовете, бесстыдница. Оно так и есть. Чистая правда. Но зачем же Таньке пересказывать? Разве же она и сама не знает, что нехорошо так делать? Знает. Но уж человек такой: ей хоть плюй в глаза, а она будет говорить, что дождь идет. Недолго разговаривая тогда со старухой, Танька хватает клюку, которую та обычно не выпускает из рук даже дома, ломает на мелкие части и с неописуемой злостью швыряет на загнетку или еще дальше – в печь. Видеть надо!..
– Сиди дома! Не будешь ползать и плакаться в жилетку, ведьма старая! Досматриваю ее, видите, не так! А кто ты мне? Кто? Это когда Митька жил, то родней была. А теперь я б и не смотрела в твою сторону , карга ты старая, если бы не деньги те. Но отец же спит, а детишек мне, пьяница беспробудный, оставил: расти- воспитывай, Татьяна! Так ты что, меня упрекать за деньги те будешь? Услышу еще раз, то вот тебе принесу и молока, и супа!–Танька тычет бабе Дуне под нос – будто норовит продырявить его – фигу и выбегает из хаты свекрови на улицу, берет направление к своей избе: они рядом, одна к одной, их хаты...
Что она ей ответит, баба Дуня? Пока одно слово подберет и то выговорить не успеет, у Таньки их сто вылетает, и тогда хоть ведро какое, что ли, от них на голову надевай, чтобы не слышать. Вишь ты, Митьку винит, что умер, а детишек оставил. А разве ж не ты сама виновата, что сына земля упрятала? Молчишь, Танька! А ты скажи, скажи! Чтобы все услышали. В лавке. Выйди на центр и скажи: «Это, люди, я сама послала Митьку на смерть... Пьяный он был. Чересчур. Пошатывался аж. Он, по-видимому, не знает, что и умер, поди. Да к нам же в тот вечер прибежала Манька из Букановки, пили вместе, втроем. И я попросила, поскольку сильная пурга была, провести Маньку, ведь могла заплутать и пропасть. Митька и повел. Когда возвращался назад, то уснул на рельсах, товарняк его и переехал». А теперь, негодница, пьяницей его обзывает. Митька не слышит, конечно, говорить можно что угодно, однако баба Дуня верит, будь Митька живой, то за такие слова Таньке ох и досталось бы!
– С конем, сынок, то и приехала,– старуха показывает клюку. –Видишь? А без него я – как без ног... У меня и еще два коня есть. Спрятала. Далеко спрятала. Чтобы Танька не увидела. Раздробит. Она коня моего покусать готова – столько злобы у человека. «Сиди дома, старая тетеря, не ползай!» А разве же мне одной дома сидеть хорошо? Хоть удавись... Ни радио, ни живой души... Одна. С котом разве поговоришь? Дети же твои взрослые, у них свои семьи. В Гомеле живут, когда в тюрьме не сидят... Они меня и жалеют, вижу, заходят, но мать ж не разрешает, цыкает. Тайком, бывает, заходят. Когда ж Танька тому, кто ко мне забежит, меньше в сумку гостинцев кладет. А есть же хочется детишкам. Попадает и людям, которые мне, бывает, посочувствуют... Не дает даже и смотреть им в мою сторону. Запретила. А людям что? Не надо – так не надо. Боже упаси, если разговор затею с кем! Сразу на Танькины окна поглядывают: не видит ли хоть она, а то будет беды. Правда ж. Она же, Митька,– это ж ты знаешь или нет? – к тебе никогда не приходит и детишек не приучила. Даже на радуницу. Те приезжают другой раз на радуницу, а на погост не идут... в доме потолкаются- потолкаются и поедут. Она, Танька, кроме как себя, кого больше любила? Детей же тогда сразу в детские дома определила, сама по курортам шастала, а там из них бандитов поделали. Вот так-то!..
А помнишь ли ты, Митька, как я говорила тебе, чтобы выгнал ты ее, Таньку, когда она сама к тебе прибежала? Помнишь. Ей в школу надо, а она к тебе. Не хватило у меня тогда смелости ее вытурить. Хорошо было б, ох и хорошо!..
Баба Дуня некоторое время молчит. Не больно любит и сама она шевелить старое, ведь старое-то не всегда приятно для нее. Если бы, рассуждает, не выгнала Катю с первым своим внуком, когда Митьку в армию забрали, то и Таньки не было б... Выгнала ж. А тогда, когда сын вернулся со службы, не пустила и на порог невестку. Вина здесь ее, что так получилось. Может , и Митька был бы жив. Да и жил бы, Манька же не Катькина подружка и ее не надо было проводить в пургу...