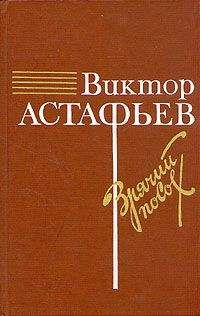– Не бойся ты, не кину... Нам же с тобой работать. Что я, козлом буду? Да мне в Якутии алмазы доверяли!
Дошли до скамейки, стоящей на самом солнцепеке около автовокзала. Сели. Подсчитали навар: получилось, что можно хорошо выпить и закусить. И маленько еще отложить можно – на консерву - другую Митрофану, а, заодно , и на билет Якуту. Якут скалил зубы, разглаживая на своем колене помятые, как правило, бумажки, сопел и плевался:
– Я же говорил, а! Мы, значит, с тобой бутылочку раздавим, закусим и поедем в свои Абакумы – как победители, как солдаты-освободители!.. Гордо поедем, едрена вошь, а не как голодные волки!..
За бутылкой побежал Якут, конечно же. Купил на «пятачке» у частных торговцев, а Митрофану сказал, что брал в торговой точке: сэкономил, таким образом, несколько тысяч. Понадобятся. Кто на деньгах, рассуждал, сидит, тот завсегда и отщипнет себе. Обязательно.
Выпили. Закусили яблоком, к закуси Якут даже не приценивался: все дорого, не для простого люда. Выпить дешевле. Не расточать же деньги, не переводить же попусту!
Посидели.
–Хорошо ты сегодня играл, – похвалил, пыхтя дымком, Якут.–Я, пошто у меня на севере глаза повымерзли, и то заплакал. Особенно про войну когда наяривал... Про землянку... Саднила душа... Может, Митрофан, для меня врежешь, специально? Прими заявку!..
– Пальцы болят. Давно так много не играл, – не согласился Митрофан.
Якут особо не настаивал, только кивал лохматой головой, и, казалось, на тротуар осыпалась с волос пыль:
– Понимаю. И хвалю. Береги, береги пальцы, дядя. Твоими пальцами мы еще долго будем ковырять копейки. Да что копейки! Тысячи! Хоть нам много и не надо. Правда? Выпить, съесть чего... Носки вот тебе купить надо. Прохудились, пальцы выглядывают... Или, может, нет? Когда нога голая, то, по-жалуй, быстрее бросят в шапку?
– Много не надо... нам, – в раздумье выдохнул Митрофан.
Через несколько мгновений Якут опять попросил:
– А, может, сыграешь? Для меня? Когда еще будет!..
– А... а у тебя деньги есть? – серьезно посмотрел незрячими глазами на Якута Митрофан. – Без денег я больше не играю. Я хоть и не вижу их, но ощущаю запах. Хорошо пахнут, хорошо!..
Якут поперхнулся. Митрофан говорил дальше, поглаживая гармонь:
– А за футляр и за то, что посоветовал, как можно зарабатывать, тебе большое спасибо. Дальше я уже сам. Как-либо. Я, хоть и слепой, но дорогу к куску хлеба, кажется, сам вижу. Да и заведешь ты меня, чувствую, старого человека, не туда, куда надо... Не всегда надо зрячего держаться. Не всегда...
Якут, к удивлению многих, кто оказался рядом, заревел, как медведь, сжал до боли кулаки, вскинув их над Митрофаном, но согнал порыв злобы на дереве, к которому примкнула спинкой скамейка, застонал от боли и начал сосать сладкую кровь на вчистую разбитой правой руке. И поносил Митрофана:
– Мать твою!.. Так что, вытер о меня ноги, падла? И ты такой, как все? Как Якутия? Как Север? Так когда я уже за свое могу получить, что мне положено-о-о?! За мою голову?.. За идею?.. А идеи теперь на вес золота... Знаешь, сколько мне надо отстегнуть? Молчишь, гад, предатель, сволочь? Да ты год будешь играть только на меня! Я тебя заставлю!..
– Год я, Якут, не проживу, наверно, – спокойно произнес Митрофан. –Хватит мою музыку уже слушать людям, хватит...
Митрофан свернул гармонь, вскинул ее на плечо, и, нащупывая дорогу тросточкой, тихонечко, осторожненько пошаркал в сторону шумного автовокзала. Якут некоторое время стоял возле скамейки и порожней бутылки с недоеденным яблоком, ноги не слушались его: он не знал, что ему делать – догонять слепого музыканта, или, может, уже не надо?..
Но побежал...
Давным-давно, когда еще Чеботок не был Чеботком, а был известен каждому как Колька, сын Митрофана Крупеньки, отец купил ему на ярмарке в Журавичах истоптанные донельзя, можно сказать и так, чеботы. Колька гордо вышагивал в тех чеботах, хоть и тянул ноги по земле , будто к ним были привязаны грузила, а подыми ногу, дай ей хоть маленько послабление – она и выковырнется из голенища. И тогда Колька сделается обычным мальчуганом, как и все,– бесчеботовым. Шурча или Костик тут как тут: дай поносить! А фигу не видели! Они, чеботы, в одно мгновение опять оказывались на босых Колькиных ногах. Чего захотели – поносить! Знаем таких: натянут на свои грязные, хоть репу сей, ноги, тогда допросись, чтоб вернули назад. Шурча так и совсем присвоить может, он что ни прихватит чужое, тогда крепко держит, словно свое, возвращать обратно ему всегда тяжело, будет выдумывать разные басни о том, что у него на войне все погибли, пали смертью героев... и даже на пальцах перечислит – кто. Да хоть и погибли – что ж теперь кормить и поить тебя? Куском хлеба, бывает, и поделятся пацаны. Но чеботы – не трогать, прочь руки ! Это самая величайшая ценность, какую имел на то время рыжий, как подсолнух, Колька.
С легкой руки кого-то Колька и стал Чеботком. Оно ж и правда, коли посмотреть на него в тех чеботах – смех давит, потому как обувка чуть меньше самого, а ноги болтаются в голенищах, наверно, как чайная ложка в граненом стакане.
– Подрастешь – самый раз будут,– другой раз, видя, как охает- ахает и сопит, шаркая ногами по улице, сын, утешал отец. –Только береги. А то без удовольствия сносишь. Тогда надолго хватит. А новых не наберешься... Не те времена, брат!..
Чеботы те послужили Кольке недолго: вскоре они были похожи на ощеренную пасть щуки, и в чем он ходил потом – не так и важно. Важно другое – на всю жизнь остался Колька Чеботком. Люди, кажется, и совсем забыли, что он – Колька, Николай Митрофаныч. Чеботок да Чеботок. И жена так звала.
Чеботок мечтал быть много кем, даже окончил Буйновичскую «академию», стал трактористом- машинистом широкого профиля, однако не сложилось: завалил забор у старухи Понтихи, покромсал грядки. Та заявила, куда следует. Получай, Чеботок, что заслужил: вот тебе вилы в руки, давай, браток, на солому двигай. Там ждут тебя!..
Кое-как добрался Чеботок до пенсии. Но пить меньше не стал. И когда одни дерутся с женами, хорошо приняв на грудь, другие похваляются своим геройством на стройках коммунизма или в армии, то Чеботок нередко опускается в колодец; он, как на то лихо, всего через дорогу от его подворья. И тогда деревенская ребятня не натешится – громко и счастливо рассыпает окрест:
– Опять Чеботок в колодце! Опять Чеботок в бадье! Босой!.. Ура-а-а!
Кое-кто из сельчан подходит к колодцу, глядит вниз, где, обхватив «клюв» журавля, сверкает щелочками масляных глаз Чеботок, а потом стреляет вверх правой рукой:
– Мой ультиматум вам, толкни его в корень! Только предупреждаю: я не террорист, а справедливый, честный мужик! Слышали? Или нет? Если нет, тогда прочистите уши! Считаю до трех! Р... раз! – Он вдруг спохватился, вспомнив, что не выложил свой ультиматум.– От... бой! Про ультиматум, толкни его в корень! Значит, так. Самолеты и доллары мне не нужны!.. Ни тем, ни другим пользоваться не умею!.. Закопаюсь!.. И Турция также. Председателя сюда, в корень!.. Слышите? Председателя-я-я!..
Председатель же, будто услышал голос Чеботка, тут как тут: проезжая как раз мимо на своем «Уазике», увидел кучку людей у колодца. Подошел, поздоровался.
Дед Семка, сдернув с головы картуз, подал туловище вперед:
– Вас просит, Савельич.
– Кто? – сразу поинтересовался председатель и, похоже, сам догадался скорее, чем ему ответили.– Если Чеботок просит, то я уже здесь.
– Он, он, – дед Семка натянул кепку.
Председатель оперся руками на сруб, свесив голову, встретился взглядом с немного растерявшимся Чеботком:
– Ты чего хотел, циркач?
Жена Чеботка, скрестив руки на груди, слезно вздохнула-выдохнула:
– И когда уже в лавке перестанут водку продавать?
Мужчины дружно зашумели на женщину, и та не рада была, что заикнулась про водку.
– Лавка тут ни при чем, – высказал свою точку зрения председатель.–Злоупотреблял твой хозяин и при сухом законе – все равно как из-под земли доставал выпивку. Не умеет пить–пускай сосет через тряпку... сами знаете, что.
–А когда и в лавке не будет, то найдутся у нас бабы, которые любую лавку переплюнут, – трезво заметил кто-то из мужчин.– Самогона наварят столько, сколько в Чеботковом колодце воды не наберется. Они и теперь не спят в шапку. Шевелятся. Так что, молодица, гляди за своим Чеботком сама, а нам кислород не перекрывай, на сухую пайку, значит, не сади. Ясно?
Стало тише. Председатель все еще не сводил глаз с Чеботка, тот по-прежнему был в оцепенении.
– Вылезай, дядька, из колодца, вылезай, не порти воду,– попросил председатель.—Не стыдно? Дети взрослые уже. Сын начальником в городе, дочь в нашей школе учительницей работает, а отец совесть потерял – в колодец забрался. Как она вот, дочь твоя, детишкам в глаза посмотрит? Ты подумал об этом, Митрофаныч?
Чеботок набрал воздуха в легкие и решительно напомнил о себе: