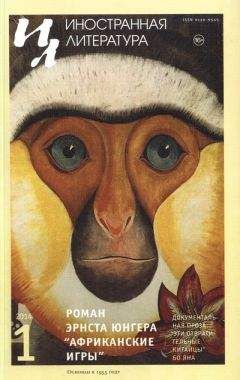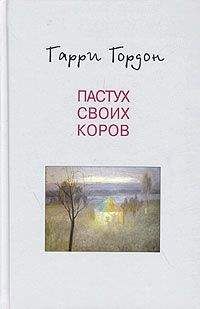— Добро! Ладно! — отвечала Сяохуань, подставив ладонь под горячую мокрую головку.
Голос Дохэ стал теперь чужим, сиплым и скрипучим, он опускался все ниже и ниже, превращая мольбы в заклятья. Если бы этот знающий по-японски человек наклонился сейчас к губам Дохэ, он услышал бы крик, блуждающий где-то в глубине ее груди: «Не дайте ей подойти, она убьет Куми… Детоубийца…»
— Хорошо, как скажешь. Все говори, что на сердце…
Да разве была Дохэ похожа на человека? Склон горы стал ей родильным креслом, она не то сидела, не то лежала, схватившись за дерево, буйные волосы разметались по плечам, широко расставленные ноги глядели на подножие горы, на дымящуюся домну, на поезд, на алеющее небо, на завод, в котором плавилась сталь. Спина Дохэ то и дело выгибалась, громадный живот ходил ходуном. Маленькая черноволосая головка нацелилась на рой огней внизу, но как женщины ни бились, головка дальше не шла.
Тацуру вся была истерзана. Так и мать произвела ее на свет, радостно превозмогая боль, что страшнее смерти, чтобы родить себе самого близкого человека.
Сяохуань рыдала в голос, почему-то от вида Дохэ ее вдруг ударило в слезы. Фонарик освещал мертвецкое лицо роженицы, она таращила глаза, как покойник, которому не закрыли веки. Что за муки так изуродовали эту женщину? Что за невыносимые муки…
Головка понемногу вышла, улеглась в ладони Сяохуань, за ней — плечи, ручки, ножки, пяточки. Сяохуань глубоко вдохнула и перекусила пуповину золотым зубом. Горы превратили крик младенца в рев маленького горна.
— Дохэ, мальчик, у нас снова сынок! — радовалась Сяохуань.
Дохэ даже не привстала, и живот оставался таким же большим. Дерево, в которое она вцепилась, беспокойно скрипело, раскачивалось, ногами она перебралась чуть выше и снова прочно уперлась в склон. Сяохуань прижала скользкого липкого младенца к своей рубахе, посветила фонариком Дохэ между ног: оттуда вдруг показалась еще одна головка.
— Ох ты! Близнецы! Ну ты даешь, сразу двух! — Сяохуань не знала, за что взяться, она была чересчур напугана и рада. Почему же столько всего свалилось на ее голову?
Дохэ уперлась руками в деревья, поднатужилась, подавшись вниз, а потом уселась, зажав в ладонях вышедшую наполовину головку. Сяохуань одной рукой держала орущего младенца, другой пыталась прижать Дохэ к земле. Она сама не знала, зачем нужно, чтобы Дохэ лежала, как будто боялась, что та покатится вниз с горы, и еще словно помогала ей принять правильную родильную позу: разрешаться от бремени следовало лежа. Но ее мощно толкнуло назад, да так, что она чуть не свалилась в канаву. Спустя несколько секунд Сяохуань поняла, что это была Дохэ, Дохэ ее пнула.
И фонарик теперь неизвестно где. Сяохуань прижимала к себе извивающегося, как гусеница, малыша, голова не соображала, тело не слушалось. Сквозь слезы фонари внизу казались волной огня.
Второй ребенок родился сам. Дохэ лишь тихонько поддержала его головку и плечи, и он преспокойно вышел, словно этот путь был ему хорошо знаком.
— Дохэ, ты видала? Двойня! Как это ты?
Сяохуань сняла с себя и штаны, хорошенько закутала детей. Теперь она почти не суетилась, движения стали вернее. Пока возилась с малышами, наказала Дохэ не шевелиться, лежать, где лежит: отнесу деток домой и приведу Чжан Цзяня, он спустит тебя с горы.
Ветер в соснах запел по-новому, теперь он выл: ууу-аааа, ууу-ааа, и вой этот переходил в долгий свист. Сяохуань посмотрела на обессиленную Дохэ и вдруг подумала про волков. Она не знала, водятся ли в горах волки. Как бы Дохэ не стала для них вкусным обедом.
Сяохуань вдруг застыла у края канавы. Все тело покрылось гусиной кожей. Виной был не холодный ветер, а страшная незнакомая мысль, которая созрела в ее сердце. По правде, Сяохуань боялась с ней познакомиться, но даже если бы набралась сил и посмотрела ей в глаза, ни за что бы ее не признала. Она прожила тридцать лет, и сколько дурного рождалось в ее сердце и там же гибло — не счесть. Но никогда еще не было такого, как сейчас, чтобы волосы встали дыбом. То была кровавая мысль: стая голодных волков дерется за еду, они рвут и тащат добычу в разные стороны… Вот и нет больше одинокой сироты Дохэ.
И время самое подходящее — сыновья родились.
Сяохуань стояла у края бурлящей канавы и слушала, как бурлит в сердце злая мысль, бурлит и утекает прочь.
Она медленно подошла к Дохэ, села. Туго спеленутые малыши больше не плакали в страхе перед бескрайним миром. Сяохуань взяла Дохэ за помертвевшую руку, ладонь стерлась о сосновую кору, сделалась сухой и шершавой. Она сказала Дохэ, что не бросит ее здесь: мало ли, вдруг в горах волки.
Дохэ дышала медленно и плавно, как будто успокоилась. Сяохуань не знала, понимает ли Дохэ ее слова, но велела ей не тревожиться: если не вернемся домой, за нами придет Чжан Цзянь. Ятоу сказала Сяохуань, что тетя скорее всего пошла в горы за цветами, тетя часто спрашивала, как называются цветы на горе.
Сначала Сяохуань увидела мельтешащие лучи — с фонариками от подножия вверх поднималось два десятка человек, не меньше.
Она что было мочи заорала:
— Сюда! Спасите!
Мальчики, перепуганные большим и нескладным миром, по очереди заголосили, звонко и высоко, точно два крохотных горна.
На поиски в горы отправилось несколько милиционеров. В десять часов Чжан Цзянь постучал в окно дежурного отделения, сказал, что у него из дома разом пропали две женщины. Одна из них жена. А вторая? Он чуть было не сказал: тоже жена, но успел поправиться: родственница. Родственница? Ну, свояченица. Когда отряд собрался, было уже почти одиннадцать, милиционеры разделились: одни пошли на вокзал, другие на автобусную станцию, остальные по наводке Чжан Цзяня отправились искать в горы. Не любили в отделении эти горы, если кто пропадал без вести в тамошнем сосновом лесу, добра не жди. Пойманные на воровстве служащие и влюбленные, которых разлучают, и повздорившие супруги отправлялись туда свести счеты с жизнью. Шаря вокруг фонариками, милиционеры расспрашивали Чжан Цзяня, как эти женщины умудрились разом исчезнуть. Чжан Цзяню казалось, что он все время отвечает не то, но запомнить свои слова он не мог. Его жены вместе сбежали. Долго он привыкал к этому ласковому слову — «жена» [45], и сейчас оно уже не казалось стыдным. Теперь он думал, что слово это в самый раз подходит их семье: у него две жены, и если есть чего стыдиться, то только этого.
Услышав крики Сяохуань, он понял, что Дохэ в беде. Следом мелькнула догадка, что в беде и ребенок. В один миг он оставил далеко позади и милиционеров, и всех остальных. За ним по пятам гналась еще одна мысль — снова придется делать преступный выбор, решать, кого спасти: мать или дитя. Он тут же понял, что скажет врачу: «Тогда… Спасайте ребенка». Сделав так, Чжан Цзянь, верно, до самой смерти себя не простит, но он все равно догадывался, что поступит иначе, чем в прошлый раз. Свет его фонарика отыскал Сяохуань.
Жена в цветастых трусах стояла на дальнем краю выложенной камнем канавы, прижав к груди два маленьких свертка. Все лицо Сяохуань было в крови. Молодой месяц только вышел из-за гор, пятна крови на ней казались чернее черного. Сяохуань уже все рассказала: Дохэ родила, два мальчика. Милиционеры один за другим подходили, переговариваясь: родила? Которая родила? Двойня! Живы?
Когда люди собрались у канавы, Дохэ уже поднялась на ноги и кое-как натянула разномастные одежки с плеча Сяохуань и Чжан Цзяня. Одной рукой она опиралась на Сяохуань, другой держалась за дерево. Вокруг говорили: нашлась и хорошо, теперь можно и дух перевести, и как она с таким пузом на гору полезла? Мать в порядке, и слава богу, вот уж повезло так повезло.
Включили фонарики, посветили на малышей, потом на мать. Когда луч скользил по женщине, она низко кланялась, и милиционеры, сами не зная зачем, кланялись в ответ. Правда, до них быстро дошло: сроду мы никому поклонов не били…
Все хохотали, шутили: Чжан Цзянь теперь должен нам корзину красных яиц [46], другие обойдутся, а мы среди ночи бродили по горам, каждому причитается по пять штук, а то и больше! Умудренный опытом милиционер по имени Лао Фу за все время ни разу не улыбнулся, он Чжан Цзяня осуждал: тоже мне, отец семейства, жена с ребятишками чуть не померла, если б не свояченица, пиши пропало.