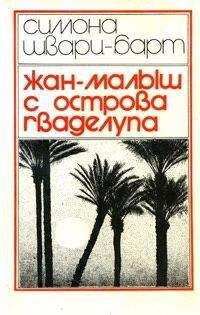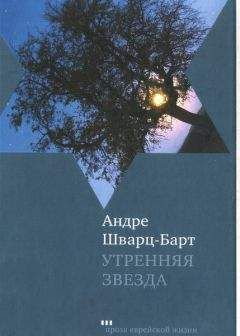Но спустились далеко не все. Те, кто вернулся, утверждали, что их друзей поглотило чудище, походившее на корову, да-да, ту самую, о которой столько говорили вначале, прежде чем преспокойно объяснить все проделками кометы: они видели ее издали, она вся светилась изнутри, как гигантский фонарь, так что просвечивали и жилы, и суставы…
Это происшествие изрядно напугало наших героев. Теперь они покидали свое убежище под сводом из корней только для того, чтобы расставить верши в речной быстряди и собрать поблизости дикие плоды и коренья. Порой им становилось голодно без мяса, и тогда Жан-Малыш лез на дерево и, затаясь там, дожидался, пока не мелькнет тень енота или крысы агути, которые приходили на водопой. Его пуля летела точно заговоренная и без промаха попадала в зверя, будто кто-то направлял ее в ночной мгле. Жан-Малыш и Эгея переходили реку вместе, держась за руки, и так же возвращались со своей добычей. Но однажды с другого берега раздался крик одичавшей свиньи, и сразу же дробно захрустели ветки под копытами продиравшегося сквозь чащу животного. То был лакомый кусочек, нежданный дар судьбы — бери, пока не удрал. У Жана-Малыша в горле пересохло от волнения, он довел девушку до фигового дерева, ловко укрыл ее ветвями и сказал:
— Замри и лучше не улыбайся.
— Это почему же?
— Если улыбнешься, то сверкнут зубки моей суженой — с горькой усмешкой сказал он и, отбросив тяжкое предчувствие, устремился в ночной мрак.
Прислушавшись, он сразу понял, что свинья пасется у подножия огромной адоры, ищет в кустарнике упавшие с Дерева плоды. Подкрался он, как всегда, ловко и неслышно, но в последний миг животное, насторожившись, оросилось наутек и исчезло. Это повторялось еще и еще раз, через каждую сотню метров: зверь испускал глухое ворчание и вдруг пропадал, колдовски заманивая нашего охотника все дальше в лес. Но вот после бесконечно долгого преследования Жан-Малыш выбрался на поляну и выстрелил почти в упор: животное на его глазах расплылось в узкую, дрожащую у ног полоску серебряного тумана, которая вмиг растаяла; и, стряхнув с себя наваждение, Жан-Малыш ринулся назад к Эгее, ждавшей его в ветвях фигового дерева.
Чуть позже с нависшего над рекой пригорка он увидел на той стороне реки, как раз на расстоянии выстрела, светящуюся тушу. Сметая все на своем пути, она грузно надвигалась на фиговое дерево, под которым он оставил Эгею. Он машинально вскинул ружье и послал в Чудовище свинцовую пулю, но оно как ни в чем не бывало неслось дальше. И тут ночь огласилась женским криком; Жан-Малыш стремглав, птицей помчался вперед, чувствуя за спиной судорожные взмахи черных крыльев. И не думал наш герой, мигом перемахнувший на тот берег, не знал он, что суждено ему вспоминать этот беспомощный вопль Эгеи всю свою жизнь, которую еще убелят снегопады долгих-предолгих лет, далекого-предалекого пути, что ведет за тридевять земель, — так предсказала ему бедная матушка Элоиза…
Когда он подбежал к подножию фигового дерева, то увидел лишь лоскуток платья на одной из нижних веток; он остолбенело уставился на клочок ситца, пытаясь понять, за что же злые чары разлучили его с живым телом Эгеи. Слабый стон заставил его очнуться: в нескольких шагах он увидел лежавшую навзничь матушку Элоизу, скорбное лицо которой казалось в этом полумраке совсем изъеденным морщинами. Она рассказала, что солдаты увезли на грузовиках с платформами все, что оставалось от Лог-Зомби, а сама она, не раздумывая, пошла к реке, к пристанищу Жана-Малыша. Но тут наткнулась на это проклятое чудище, которое ударило ее в грудь своим тяжелым копытом и понеслось дальше своим проклятым путем…
Она силилась сказать еще что-то, но ее глаза, как у Вадембы в предсмертный час, уже подернулись нежно-розовой пеленой, она глубоко вздохнула и хотела было выдохнуть, но не смогла…
Жан-Малыш поднял тело матери, пересек вброд реку и вошел в опустевшую деревню. Почти все двери были вышиблены, а о том, что здесь произошло, говорили мертвые тела, распростертые на земле рядом с охотничьими ружьями, дубинами и тесаками. Дома он положил покойную на кухонный стол, вышел во двор и выкопал могилу возле гуаявы — того самого дерева, на которое, бывало, усаживался крылатый дух Бессмертного. Потом он обмыл и убрал матушку Элоизу и опустил на ее последнее ложе, и было на ней лучшее ее платье в яркую желтую клетку и платок из той же материи, повязанный так, что три угла ниспадали ей на спину, не закрывая талии, которая до самой старости оставалось тонкой, как у осы. Наконец он вложил в ее скрещенные на груди руки трубку, будто она затягивалась напоследок…
Вокруг него сновали дневные птицы, при свете факела они склевывали червячков из свежевырытой земли. Засыпая могилу, он раздумывал о судьбе матушки Элоизы, спрашивая себя, что вдруг толкнуло ее под копыта Чудовища. Никогда он не узнает, кем все-таки была та, что лежит сейчас под землей с трубкой в руке. Вдруг он отбросил лопату, вошел в хижину и вынес оттуда все пожитки матери: ее ночную рубашку, посуду, из которой она пила и ела, деревянный гребень с длинными зубьями, чтобы расчесывать волосы, и ее любимую эмалированную кастрюлю, подаренную этим загадочным жизнелюбивым существом — Жаном Оризоном. Подумав немного, он опять зашел в хижину и, вернувшись, опустил в яму еще и большую жестяную банку; она всегда красовалась на дверном косяке на самом видном месте, чтобы все гости знали: матушка Элоиза порядочная женщина, у нее никогда не пустует банка с соленым сливочным маслом. Потом он надолго задумался, спрашивая себя, что еще могла бы взять с собой эта трудолюбивая пчелка, и понял, что взяла бы она всю Гваделупу, ту, что знала в молодости, с кусочком синего неба, желтым солнышком и зеленой-презеленой травой! Когда он понял это, его охватила великая скорбь, такая великая, что ему захотелось лечь в могилу и замереть там рядом с покой ной…
И в этот миг дрогнуло пламя факела, юношу овеял знакомый запах корицы, и он услышал в своей душе голос матушки Элоизы: мертвых, сынок, хоронить следует, Да-да, хоронить их надо…
— Все будет так, как ты хочешь, матушка, — вздохнул он.
Голова у него кружилась, он быстро засыпал яму, взял старую котомку матери, опустил туда кремень, запальник из сухого дерева, перочинный нож, тесак, моток тонкой проволоки для силков, взглянул в последний раз на гуаяву и, отбросив через плечо могильный заступ, быстро пересек деревню, вышел на заветную тропу…
Когда, еще возле реки, Жан-Малыш поднял тело матери, ему показалось, что сердце его не вынесет такой великой скорби. Теперь же, на тропе, его утешал все еще кружившийся вокруг него легкий аромат корицы. Правда, сейчас он был еле слышен, не то что возле могилы, но и его вполне хватало, чтобы не чувствовать себя одиноким. Тело Жана-Малыша налилось свинцовой печалью. Он с трудом заставлял себя идти, едва волоча ноги, поглядывая краем глаза на желтую луну, которая парила над верхушками деревьев, словно птица с распростертыми крыльями. Стояла дивная, как в добрые старые времена, ночь, ее черное лицо было осыпано мелкой пудрой звезд, которые падали и падали на склоны вулкана. И наш герой вспомнил, что матушка Элоиза называла Млечный Путь дорогой богов: боги собирали звезды полными пригоршня ми, складывали их в корзины, но некоторым звездочкам удавалось улизнуть, они падали вниз и разбивались вдребезги, превращаясь в небесную пыль.
Сбирали звезды как зерно горстями
Ссыпали звезды как пшено горстями
Пригоршнями — полны корзины
Так женщины сбирают саранчу горстями
В корзины складывают саранчу горстями
Переполняя их
О полные корзины
Так, подбадривая себя песней, он приподнял широкий стебель алоэ, скрывавший тайный проход, и взобрался на плато, где было то же запустение, что в долине, — куда ни глянь, одни развалины. Под старым деревом манго трава вздувалась небольшим холмиком. На метровой глубине лопата наткнулась на сидящий скелет, который держал в руках туго обтянутый телячьей шкурой мушкет. На коленях скелета покоился козий рог с черным порохом и патронташ с пулями, на вид серебряными. При виде завернутого в кожу, целого и невредимого оружия наш герой совсем было потерял голову. Воспоминание о гнусном Чудовище уже переполняло его яростью, заставив по-звериному ощериться, он готов был, как и раньше, кинуться через горы и долы с боевым кличем, когда далекий аромат корицы тонко щекотнул ему ноздри. Запах был еле-еле уловимым, почти неслышным, будто последний вздох маленькой доброй старушки, ее послед нее прощание с землей, но он сразу привел его в чувство: спасибо, благодарно прошептал он, улыбнувшись пролетевшей рядом душе, большое тебе спасибо, матушка…
Вдруг слабый шорох заставил его обернуться, и он увидел два престранных существа, которые, склонившись над ямой, наблюдали за ним. Одного он сразу узнал: то был старый Эсеб, человек с потусторонним лицом, который приходил за ним в день смерти Вадембы, он совсем не изменился с тех пор — все те же длинные штаны, те же рубаха и соломенная шляпа с ниспадавшими на плечи полями. Другой был из тех звероподобных созданий, что стояли в ту памятную ночь застывшими изваяниями возле круглой, побеленной луной хижины: старик с грузным, изрытым складками человечьим туловищем, которое венчало кабанье рыло, поросшее длинной, тревожно шурша щей щетиной. Багровые глаза вепря вспыхнули, и из его пасти раздались сдавленные, едва различимые звуки: