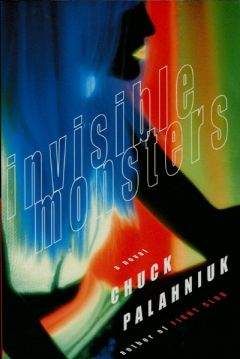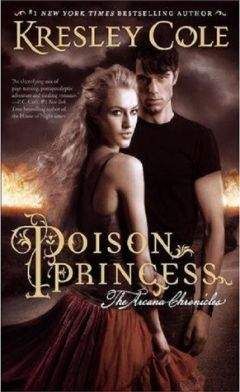Она готовит ужин при свете фонарика. Когда я открываю печку или холодильник, она тут же впадает в панику, оттесняет меня в сторону и закрывает все, что бы я ни открыла.
- Внутри яркий свет, - поясняет она. - Уровень актов насилия против геев за последние пять лет возрос больше чем на сто процентов.
Домой приезжает отец, оставляет машину на полквартала в стороне. Его ключи звенят по ту сторону нового засова на двери, а мама замирает в дверях кухни, оттаскивая меня назад. Звон ключей прекращается, и мой отец стучит в дверь: три раза быстро, потом два медленно.
- Это его стук, - говорит мама. - Но все равно не забудь посмотреть в глазок.
Входит отец, разглядывая через плечо темную улицу, и рапортует:
- Ромео-танго-фокстрот-шесть-семь-четыре. Запиши быстрее.
Моя мать пишет это в блокноте у телефона.
- Цвет? - спрашивает она. - Модель?
- Голубой металлик, - отвечает отец. - "Сэйбл".
Мама отзывается:
- Записано.
Я говорю, что они, быть может, немного перегибают палку.
А мой отец отвечает:
- Не надо недооценивать нашего противника.
Переключимся на то, какой же ошибкой было приходить домой. Переключимся на то, что Шейну бы увидеть все это: насколько наши родители стали дебилы. Отец выключает лампу, которую я включила в гостиной. Шторы на большом окне закрыты и сколоты посередине булавками. Они помнят в темноте всю мебель, но я-то, я же натыкаюсь на каждый стул и край стола. Сбиваю на пол сахарницу, та вдребезги, и мать с воплем падает плашмя на кухонный линолеум.
Отец вылазит из-за дивана, где он сидел, и говорит:
- Задашь ты матери пороху. Мы тут ждем со дня на день преступления нетерпимости.
С кухни орет мама:
- Это что, камень?! Ничего не горит?
Мой отец орет в ответ:
- Не жми кнопку тревоги, Лесли! Еще одна ложная тревога, и нам придется за них платить.
Теперь я понимаю, для чего некоторым пылесосам приделывают фары. Первым делом подбираю битое стекло в кромешной тьме. Потом прошу отца принести бинт. Стою на месте, держа у сердца порезанную руку, и жду. Отец появляется из темноты со спиртом и бинтами.
- Такова война, которую мы ведем, - замечает он. - Все мы в дерьме.
В ДиРМе. Друзья и Родственники Меньшинств. Знаю, знаю, знаю. Спасибо тебе, Шейн.
Говорю:
- Нечего вам делать в ДиРМе. Ваш сын-голубой мертв, поэтому больше он не в счет.
Звучит довольно болезненно, но мне сейчас и самой больно. Говорю:
- Извините.
Бинты тугие, а спирт во тьме жжет руку, и мой отец рассказывает:
- Вильсоны поставили во дворе знак ДиРМа. Так двое суток спустя кто-то врулил к ним на газон и все разнес.
У предков нигде нет знаков ДиРМа.
- Наши мы поснимали, - поясняет отец. - У твоей матери на бампере наклейка ДиРМа, поэтому ее машину мы держим в гараже. Наша гордость за твоего брата привела нас прямо на линию фронта.
Моя мать рассказывает из темноты:
- А про Брэдфордов. Они получили на крыльцо горящий мешок собачьих экскрементов. Из-за него мог сгореть дотла весь дом, пока они лежали в постелях, а все из-за полосатого носка-флюгера ДиРМа у них на заднем дворе, - мама подчеркивает. - Даже не на парадном - на заднем дворе.
- Ненависть, - замечает отец. - Окружает нас повсюду, Шишечка. Ты это знаешь?
Мама командует:
- Марш, солдаты. Время полевой кухни.
На ужин какая-то запеканка из поваренной книги ДиРМа. Неплохая, но, господи помилуй, на что она смахивает. Снова я натыкаюсь в темноте на свое любимое стекло, просыпаю на себя соль. Стоит мне сказать слово - предки шипят на меня. Мама спрашивает:
- Ничего не слышали? Это с улицы?
Шепотом интересуюсь, помнят ли они, что завтра за день. Просто хочется глянуть, помнят ли они, что у нас там насчет родственных связей. Речь не о том, что я жду торт со свечками и подарок.
- Завтра, - говорит папа. - Конечно, помним. Поэтому и нервные как кошки.
- Мы хотели поговорить с тобой про завтра, - продолжает мама. - Мы знаем, как ты до сих пор расстраиваешься из-за брата, и думаем, что тебе неплохо было бы промаршировать с нашей группой на параде.
Перенесемся в еще одно больное дебильное расстройство, которое уже не за горами.
Переключимся на меня, сметенную их великими актами отплаты, их великой епитимьей на все годы спустя, с того дня, когда отец орал:
- Мы не знаем, что за грязные болезни ты притаскиваешь в этот дом, мистер, но с сегодняшнего вечера иди и ночуй в другом месте.
Это они зовут "крепкой любовью".
Тот самый обеденный стол, за которым мама сказала Шейну:
- Сегодня звонили от доктора Петерсона.
Мне она говорила:
- Можешь пойти к себе в комнату и почитать, юная леди.
Я могла пойти хоть на луну, и все равно слышала бы все те крики.
Шейн и предки сидели в гостиной, а я стояла у двери своей спальни. Моя одежда, почти вся моя одежда для школы висела снаружи на бельевой веревке. А внутри говорил отец.
- У тебя ведь не ангина, мистер, и нам хотелось бы знать, где ты был и чем занимался.
- С наркотиками, - сказала мама. - Мы бы еще смирились.
Шейн ни разу не проронил ни слова. Его лицо все еще блестело и морщилось от шрамов.
- С подростковой беременностью, - сказала мама. - Мы бы еще смирились.
Ни единого слова.
- Доктор Петерсон, - сказала она. - Сообщил, что такое заболевание, как у тебя, можно получить только одним путем, но я говорю ему: нет, только не наш ребенок - только не ты, Шейн.
Отец продолжал:
- Мы звонили тренеру Ладлоу, и он сказал, что баскетбол ты бросил два месяца назад.
- Завтра сходишь в городскую поликлинику, - говорила мама.
- А сегодня, - продолжал отец. - Мы хотим, чтобы ты убрался отсюда.
Наш отец.
Те самые люди, которые сейчас так добры и милы, так заботливы и участливы, те же самые люди, которые обрели свою сущность и духовную целостность на линии фронта в борьбе за признание, личное достоинство и равноправие для своего мертвого сына; я слышала сквозь дверь спальни, как те же самые люди орали:
- Мы не знаем, что за грязные болезни ты притаскиваешь в этот дом, мистер, но с сегодняшнего вечера иди и ночуй в другом месте.
Помню, что хотела выйти и забрать свои вещи, выгладить их, сложить и убрать.
Дайте мне хоть какое-то чувство контроля.
Вспышка!
Помню, как парадная дверь тихо открылась и прикрылась: она не хлопала. Пока в моей комнате горел свет, я видела только собственное отражение в окне спальни. А когда выключила свет, там был Шейн, стоявший прямо под окном, смотревший на меня, с изрубленным и перекошенным лицом из фильма ужасов, темным и грубым от разрыва баллона с лаком.
Дайте мне ужас.
Вспышка!
Никогда не знала, что он курит, но он зажег спичку и поднес ее к сигарете во рту. Постучал в окно.
Сказал:
- Эй, пусти.
Дайте мне отречение.
Сказал:
- Эй, тут холодно.
Дайте мне безразличие.
Я включила свет в спальне, чтобы видеть в окне лишь себя. Потом задернула шторы. Шейна не видела с тех пор никогда.
Сегодня вечером, с потушенным светом, с закрытыми шторами и дверью, когда Шейна нет, и от него остался лишь призрак, я спрашиваю:
- Что за парад?
Мама отвечает:
- Парад Голубой Гордости.
Папа говорит:
- Мы маршируем с ДиРМом.
И они хотят, чтобы я шла с ними. Они хотят, чтобы я сидела здесь в потемках, притворяясь, что мы прячемся от внешнего мира. От полного ненависти незнакомца, который ночью явится заполучить нас. Это какая-то неизлечимая инопланетная сексуальная болезнь. Им кажется, что они до смерти боятся какого-то козла-гомофоба. Их вины в этом нет. Они хотят, чтоб я подумала, чтобы на что-то решилась.
Не выбрасывала я тот баллон с лаком. Только выключила свет в спальне. Потом издалека приблизились пожарные машины. Потом по моим шторам снаружи пробежал оранжевый отблеск, а когда встала с постели посмотреть, - горели мои школьные вещи. Сушившиеся на бельевой веревке и полоскавшиеся по ветру. Платья, джемперы, брюки и блузки, все они полыхали и разваливались на сквозняке. Несколько секунд спустя исчезло все, что я любила.
Вспышка!
Перенесемся на несколько лет вперед, когда я выросла и отселилась. Дайте мне новое начало.
Перенесемся в одну ночь, когда кто-то позвонил из автомата и спросил предков, они ли родители Шейна Мак-Фарленда? "Допустим", - ответили родители. Звонивший не говорил, откуда он, но сказал, что Шейн умер.
Голос за спиной звонившего попросил:
- Скажи им, что еще.
Другой голос позади звонившего подсказал:
- Скажи им, что мисс Шейн терпеть не могла их ненавистные рожи, и что ее последними словами были: "все еще не кончено, даже близко не кончено".
Потом кто-то засмеялся.
Переключимся на нас, сидящих здесь в темноте наедине с запеканкой.