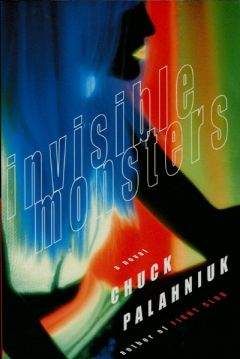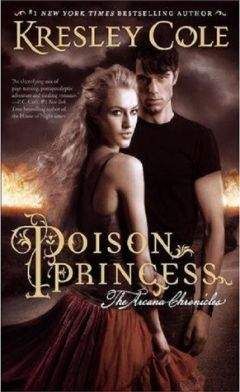Мой отец спрашивает:
- Так что, милая, ты пойдешь маршировать со мной и матерью?
Мама говорит:
- Это так много будет значить для прав голубых.
Дайте мне смелость.
Вспышка!
Дайте мне терпение.
Вспышка!
Дайте мне мудрость.
Вспышка!
Переключимся на правду. И я говорю:
- Нет.
Перенесемся в момент около часа ночи в большой безмолвный особняк Эви, когда Манус перестает орать, и я, наконец, могу поразмыслить.
Эви сейчас в Кэнкане; видно, она ждет, что ей позвонят из полиции и скажут: "Та девушка, что присматривала за вашим домом, ну, то чудовище без челюсти, так вот, она застрелила вашего тайного любовника насмерть, когда он вломился к ней с разделочным ножом: таково наше самое вероятное предположение".
Ясно, что сейчас Эви не смыкает глаз. Сидя в номере какого-нибудь мексиканского отеля, Эви пытается высчитать, какая разница во времени, в три или же в четыре часа, между ее особняком, где я лежу мертвая, зарезанная насмерть, и Кэнканом, где Эви якобы приходится присутствовать на съемках для каталога. Не очень умно задумано, Эви. Никто не станет снимать каталоги в Кэнкане в пик сезона, тем более с такими ширококостными ковбойшами, как наша Эви.
Но если я буду мертва, уж тогда откроется целый мир возможностей.
Я - невидимое ничто, сидящее на диване, обтянутом в белое камчатное полотно, напротив такого же дивана по ту сторону кофейного столика, похожего на большой брусок малахита из курса геологии.
Эви спала с моим женихом, поэтому теперь я вправе сделать с ней что угодно.
В кино, когда кто-то вдруг обретает невидимость, - ну, вы помните, везуха с ядерной радиацией, или рецепт сумасшедшего ученого, - всегда задумываешься: а что бы сделала я, если бы была невидимой?.. Ну, идеи вроде пробраться в мужскую раздевалку в спортзале "Голд", или, еще круче, - в раздевалку команды "Оукленд Райдерс". И тому подобное. Пробраться к "Тиффани", нахватать бриллиантовых тиар, и все такое.
Даже будучи настолько тупым, Манус все равно мог бы меня прирезать сегодня ночью, приняв меня за Эви, считая, что Эви в меня стреляла, - пока я спала бы в постели в темноте.
А мой папа пришел бы на похороны, и рассказывал бы всем, что я всегда мечтала вернуться в колледж и получить степень по персональному фитнессу, а потом, несомненно, поступить в медицинский. Папа, папа, папа, папа, папочка, в курсе биологии я не продвинулась дальше зародыша свиньи.
А теперь я покойник.
Прости, мам. Прости, Бог.
А Эви стояла бы рядом с моей мамой у открытого гроба. Эви пошатнулась бы и облокотилась на Мануса. Представьте себе, Эви нашла бы что-нибудь абсолютно гротескное, во что меня бы приодели в похоронном бюро. И вот Эви обвивает рукой мою маму, а Манусу не удается быстренько отойти от раскрытого гроба, а в этом обитом синим вельветом гробу, по виду как интерьер "Линкольн Таун Кар", лежу я. Конечно, спасибо тебе, Эви, на мне надето китайское кимоно желтого шелка из вечернего гардероба наложницы, через боковой разрез до пояса виднеются чулки в сеточку, а в тазобедренной области и на груди вышиты красные драконы.
И на мне красные туфли на высоких каблуках.
Понятное дело, Эви говорит моей маме:
- Она всегда любила это платье. Это было ее любимое кимоно, - скажет чуткая Эви. - Наверное, из-за этого вы так плачете.
Я готова убить Эви.
Я змеям бы заплатила, чтобы они ее искусали.
А Эви будет одета в маленький черный коктейль-ансамбль с корсажем без шнуровки и юбкой с подрубленной сатином асимметричной каймой от Реи Кавакубо. Рукава и плечи будут из чистого черного шифона. У Эви, знаете ли, будут камушки: большие изумруды к ее чересчур зеленым глазам и сменные аксессуары в сумочке, чтобы потом в этом же платье пойти на танцы.
Ненавижу Эви.
Ну я а разлагаюсь, истекшая кровью под этим шлюховатым проститутским платьем наложницы Сьюзи-Вонг-Токийская-Роза, которое мне не подходило размерами, и им пришлось сколоть все лишнее, стянув ткань у меня за спиной.
Мертвой я смотрюсь, как говно.
Смотрюсь, как мертвое говно.
Готова прирезать Эви прямо сейчас, прямо по телефону.
"Нет, правда", - говорила бы я миссис Коттрелл, пока мы заносили бы урну с Эви в семейный склеп где-нибудь в городке Дырища, штат Техас, - "Правда, Эви хотелось быть кремированной".
Лично я на похороны Эви надела бы тугое как жгут черное кожаное мини-платье от Джанни Версаче, натянула на руки многие ярды черных шелковых перчаток. Села бы с Манусом на заднее сиденье большого черного похоронного "кэдди", и в этом седане на мне была бы черная шляпа с вуалью от Кристиана Лакруа, которую потом можно было бы снять, и посетить торжественную часть перед крупным аукционом, или покупать недвижимость, или что-нибудь там еще, а потом - пойти перекусить.
А Эви - ну что ж, Эви будет прахом. Ну, то есть, пеплом.
Сидя одна в ее гостиной, беру с похожего на кусок малахита столика хрустальную сигаретницу, и резко швыряю это маленькое сокровище о кирпичи камина.
Законченная буржуйка во всей красе, я вдруг жалею о том, что сделала это, склоняюсь и начинаю подбирать мусор. Стекло и сигареты. Очень в духе Эви... ...сигаретница! Вот уж действительно последнее веяние.
И спички.
Легкий укол пронзает мне палец: я порезалась настолько прозрачным и тонким осколком, что он невидим.
Ах, какое волнующее чувство.
Только когда кровь очерчивает осколок красным по контуру, могу разглядеть, чем порезалась. Моя кровь на извлеченном битом стекле. Кровь на спичечном коробке.
"Нет, миссис Коттрелл. Нет, правда, Эви хотелось быть кремированной".
Отрываюсь от кучи мусора и бегаю тут и там, оставляя кровь на каждой лампе и выключателе, вырубая их все. Пробегаю мимо платяной кладовки, а Манус ноет оттуда:
- Пожалуйста, - а мне не до него, я задумала такую потрясную штуку!
Гашу свет по всему первому этажу, а Манус зовет. Ему нужно выйти в туалет, просит он.
- Пожалуйста.
Плантаторский особняк Эви с большими колоннами спереди весь погружен во тьму, когда я нащупываю дорогу назад, в столовую. Нащупываю дверной проем и отсчитываю десять осторожных шагов вслепую поперек ковра "Ориенталь", к обеденному столу под кружевной скатертью.
Зажигаю спичку. Зажигаю одну за другой свечи на большом серебряном канделябре.
Ладно, допустим это сильно в духе готических романов, но я зажигаю все пять свечей на канделябре, который так тяжел, что мне приходится поднимать его обеими руками.
По-прежнему одетая в сатиновый пеньюарный набор и халат со страусовыми перьями, я есть ни что иное, как призрак прекрасной девушки, несущий эту штуковину со свечами вверх по длинной полукруглой лестнице Эви. Вверх мимо всех написанных маслом картин, потом вниз по коридору второго этажа. В центральной спальне прекрасная девушка-призрак в сатине, залитом свечным светом, открывает шкафы и чуланы, полные ее родных вещей, растянутых до смерти злой великаншей Эви Коттрелл. Замученные тела платьев и свитеров, платьев и слаксов, платьев и джинсов, костюмов, обуви, и снова платьев: практически все изуродовано и несчастно, и должно быть освобождено от бремени горестей.
Фотограф у меня голове говорит: "Дай мне злость".
Вспышка!
"Дай мне месть".
Вспышка!
"Дай мне полную и окончательную законную расплату".
Уже мертвый призрак во всей красе: беззаботное, полностью всемогущее незримое ничто, которым я стала, подносит канделябр ко всем этим тканям, и:
Вспышка!
У нас тут ни что иное, как преисподняя ненормальных вкусов Эви.
И как она волнует.
И как она веселит! Пробую покрывало, - этот античный бельгийский шелковый плед, - и оно горит.
Шторы, портьеры мисс Эви из зеленого вельвета, горят.
Абажуры горят.
Вот дерьмище. Надетый на мне шифон тоже горит. Сбиваю пламя с подсмоленных перышек и отступаю из модной топки центральной спальни Эви в коридор второго этажа.
Есть еще десять спален и парочка ванных, и я обхожу все, комнату за комнатой. Полотенца горят. Ад в ванной! "Шанель номер пять" горит. Картины маслом со скаковыми лошадками и мертвыми крестьянами - горят. Репродукции ковров "Ориенталь" горят. У Эви были поганые композиции из сушеных цветов - сейчас это маленькие настольные адики. Как мило! Куколка Кэтти-Кати Эви сначала плавится, потом горит. Коллекция Эви из больших карнавальных набитых зверьков - Зайка, Песик, Пам-Пам, Мистер Кроликс, Шуши, Пу-Пу и Звоночек - холокост мягкой игрушки. Как это сладко. Как дорого сердцу.
Вернувшись в ванную, я хватаю одну из немногих вещей, которые в огне не горят:
Пузырек валиума.
Спускаюсь по большой полукруглой лестнице. Манус, когда вломился меня убить, оставил входную дверь открытой, и второй этаж-преисподняя втягивает прохладный бриз ночного воздуха вверх по лестнице сквозь меня. Задувая мне свечи. Теперь единственный свет истекает из ада, от здоровенного обогревателя воздуха, который улыбается, глядя сверху на меня, распаренную, облепленную дюжиной фиговых листочков своего воспетого шифона.