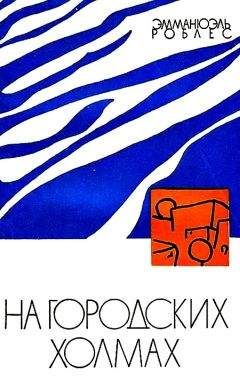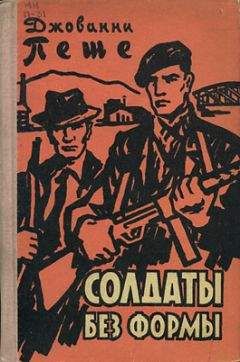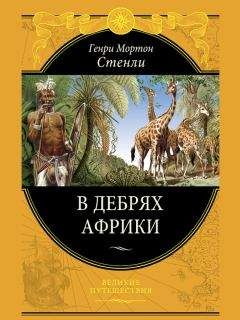Потом он прочитал письмо одного алжирского рабочего, посланное им из Франции своей семье. Не знаю, почему (может быть, я невнимательно слушал его), но среди рабочих поднялся вдруг ропот (и у меня быстро и четко забилось сердце). Гулко и угрожающе, словно грохот невидимых барабанов, раскатился он под огромным сводом рынка. (Мне показалось, что в письме проскользнул намек на трудности отправления религиозных обрядов. Впрочем, возможно, я и ошибся.)
Альмаро пришлось замолчать. Нахмурившись и глядя в зал холодными, блестящими глазами, он ждал.
Я почувствовал, как по всему телу, по ногам пробежали мурашки…
Полицейские нерешительно переминались с ноги на ногу. Скрытое под угольной маской лицо молодого докера, которого я заприметил раньше, стало озлобленным.
Это продолжалось не больше четырех-пяти секунд. Медленно, словно пыль, в зале оседала тишина. Альмаро снова заговорил, и на этот раз громче и резче, энергично жестикулируя руками.
Он опроверг слухи о том, что английская авиация постоянно бомбит стройки. Это свое утверждение он втолковывал с большой настойчивостью.
Потом Альмаро заговорил об англичанах. Он утверждал, что все они продались евреям, и заявил, что даст тому доказательство, только одно доказательство, но такое, что никто не сможет опровергнуть его… Зал в любопытстве замер. Альмаро стоял с решительным видом, наклонив голову вперед… Наконец он перечислил те скандальные преимущества и рассказал о той возмутительной поддержке, которую англичане оказывают евреям в Палестине в ущерб законным и исконным интересам арабов.
Его слушали в гулкой тишине, которая не нарушалась даже обычным покашливанием. Можно было подумать, что он обращается к деревянным, неповоротливым куклам, тесно прижавшимся плечом к плечу. Мой молодой докер забыл даже о своей дымящейся сигарете.
«Этот безумец посмел утверждать…»
Альмаро обращался к простым людям, к тем самым людям, которых он презирал, на их родном языке и без зазрения совести орудовал в своей речи самыми грубыми аргументами, способными затронуть его слушателей.
С особым упорством он стремился взбудоражить, вызвать в их душах самые примитивные, но зато и самые мощные инстинкты и те застарелые предрассудки, которые уходили своими корнями в далекое прошлое… Нетрудная игра. И она ему удавалась.
«Этот безумец посмел утверждать…»
А почему бы ему и не утверждать? Кто уличит его во лжи? Кто, пробившись через кордон полиции, рискнет подняться на эту трибуну, чтобы опровергнуть его слова?
Он презирал этих людей. Я уже испытал на себе всю невероятную тяжесть его презрения. (Я испытывал его и сейчас, и это вызывало у меня чувство отвращения и даже горечи.) Но Альмаро удерживал меня, притягивал, заставлял оставаться здесь.
Он говорил, что необходимо помочь немцам. Я подумал было, что ропот возобновится, однако никто ему не мешал… От досады я закусил губы.
Итак, надо помочь немцам, надо «одолжить наши руки тем, кто подставляет под пули свою грудь». (Геббельсовская пропаганда. Между прочим, я узнал лозунг, который однажды слышал по радио.) Наконец Альмаро добрался и до войны с Россией…
Я следил за ним так внимательно, что у меня стало ломить виски.
Я бросил быстрый взгляд на молодого докера. Казалось, он слушает как зачарованный.
— …Если русские выиграют войну в Европе, они заставят жить все страны ислама по их чудовищным законам: женщин принудят выходить на улицу без чадры, в школах с обязательным обучением объединят молодых парней и созревших девушек…
Это он припас на конец!
По гнетущей тишине, по слишком уж напряженному молчанию, по впившимся в него взглядам Альмаро на своей трибуне должен был чувствовать, — да это чувствовал и я сам, — что он выиграл…
Да, выиграл! Он все еще говорил, но я уже не слушал.
«Этот безумец посмел утверждать…»
Эх, Идир! Альмаро даже не пришлось обращаться к богу и напоминать о священной войне… Он выиграл и без этого!
Плюнуть, бы ему в морду! Слюна у меня была с каким-то кисловатым рвотным привкусом.
У дверей торчали полицейские. На улице, в тени домов, прятались от солнца жандармы с винтовками через плечо.
Я словно оцепенел и закрыл глаза.
Кто-то крикнул:
— Передавайте листки! Кто не умеет писать, пусть подойдет к этому столу!..
Я снова открыл глаза, и передо мной на полу заплясали солнечные блики. Молоденький докер уже стоял в очереди. Нет, лучше не двигаться! Я боялся, что гнев мой прорвется, стоит только мне шелохнуться, — так раненый страшится вызвать боль.
Только не двигаться!..
Альмаро спустился с трибуны.
Я видел его теперь в глубине зала; он опять стал маленьким и уязвимым. Он уходил…
Другой, тот самый тип с головой жабы, шел за ним. Опять я подумал, что надо бы иметь при себе револьвер Фернандеса. Горечь бессилия медленно сдавила горло, и мне показалось, что я задыхаюсь.
Я должен иметь при себе револьвер, должен…
Я вышел из зала и окунулся в ослепительный дневной свет. Солнечные иглы, словно осколки стекла, вонзились мне в глаза и проникли вглубь, вызывая обильные слезы.
Альмаро уже сидел в машине, на заднем сиденье.
Его спутник, стоя на подножке, повернулся к полицейскому инспектору арабу, которого я знал. Его звали Брахим Рамани Сиди Шейк…
Я замер на месте, сдерживая дыхание; сердце разрывалось от отчаяния…
Но вот хлопнула дверца. Заурчал мотор. Сверкающая машина медленно тронулась с места, раздвигая потоки солнечных лучей, словно занавес.
Я стоял понурившись, испытывая ужасное чувство поражения, одиночества и пустоты. Глаза ломило от света. Терзало сожаление, что у меня нет револьвера, чтобы пустить пулю в этого человека с презрительной и удовлетворенной усмешкой и с жирным, иссиня-выбритым лицом, которое постоянно стояло у меня перед глазами…
Автомобиль медленно проехал мимо меня, тарахтя мотором. Заскрипели по гравию шины. Сейчас он унесется прочь, исчезнет.
Я стоял у стены. Где-то совсем рядом гоготали полицейские. И вот тогда Альмаро увидел меня.
Улыбка сползла с его лица.
Альмаро увидел меня! На секунду наши взгляды встретились. В глазах у него мелькнули беспокойство и ярость…
Но автомобиль уже проскочил мимо меня и теперь удалялся. Я услышал, как щелкнул рычаг передачи скоростей. Я шагнул вперед на шоссе и в рамке заднего окошка машины заметил голову Альмаро, его уродливую, словно отсеченную от туловища голову.
II
Долго бродил я по городу, прежде чем вернуться домой.
Я был очень подавлен и без конца спрашивал себя, что должен был подумать Альмаро, увидев меня. Испугался ли он? Побоялся ли покушения?.. Я прошел по Брессонскому скверу и вдруг остановился как вкопанный, пораженный неожиданно мелькнувшей у меня мыслью: «А вообще-то, боится ли меня Альмаро? Может быть, он принимает меня за сумасбродного мальчишку, одного из тех, что до одури накуриваются сигаретами с наркотиками?»
Я снова двинулся вперед; в уши настойчиво лез раздражающий шелест листвы. В конце концов я решил, что Альмаро не боится меня, и испытал от этого чувство какого-то унижения. Он, бесспорно, должен был прийти к выводу, что если бы я действительно хотел отомстить, то давно бы уже сделал это. Вот, к примеру, сегодня в полдень для этого представлялся великолепный случай. Со злобой я вспомнил, что, увидев меня, Альмаро даже не отпрянул.
Казалось, я слышу: в этот самый момент он как бы невзначай говорит жене: «Кстати, сегодня опять видел этого дурака Смайла. Ты была права, надо отправить его долбить булыжник в Тебессу. Он мне осточертел!» Нет, нет, он не боится меня!
Я вошел к себе в комнату взять туалетный прибор и немного белья, которое рассчитывал захватить с собой в дорогу.
Но едва я открыл дверь, как мне сразу же показалось, что все в комнате выглядит как-то иначе. Сначала это было только смутное предположение, но понемногу предположение это окрепло и взволновало меня.
Насторожившись, я застыл на месте. Наступал вечер, и пятна теней, казалось, скрадывали расстояния между вещами, стоявшими в комнате. Вокруг — ни души. И все-таки я ощущал присутствие кого-то незримого. Я пошарил в кармане и вытащил нож. Я раскрыл его: резко и звонко щелкнула пружина.
Запах. Здесь курили. И совсем недавно.
А я ведь не переступал порога своей комнаты со вчерашнего дня.
Капли воды, разбрызганные вокруг умывальника, круглые, поблескивавшие, словно мышиные глазки, еще больше усиливали чувство тревоги. Может быть, это Флавия? Но кто же тогда курил?
Промежуток между шкафом и стеной — единственное место в комнате, где можно спрятаться. Я шагнул вперед и возле ночного столика увидел раздавленный окурок сигары.
Я подумал: стоит двинуться дальше — и мне не миновать западни…